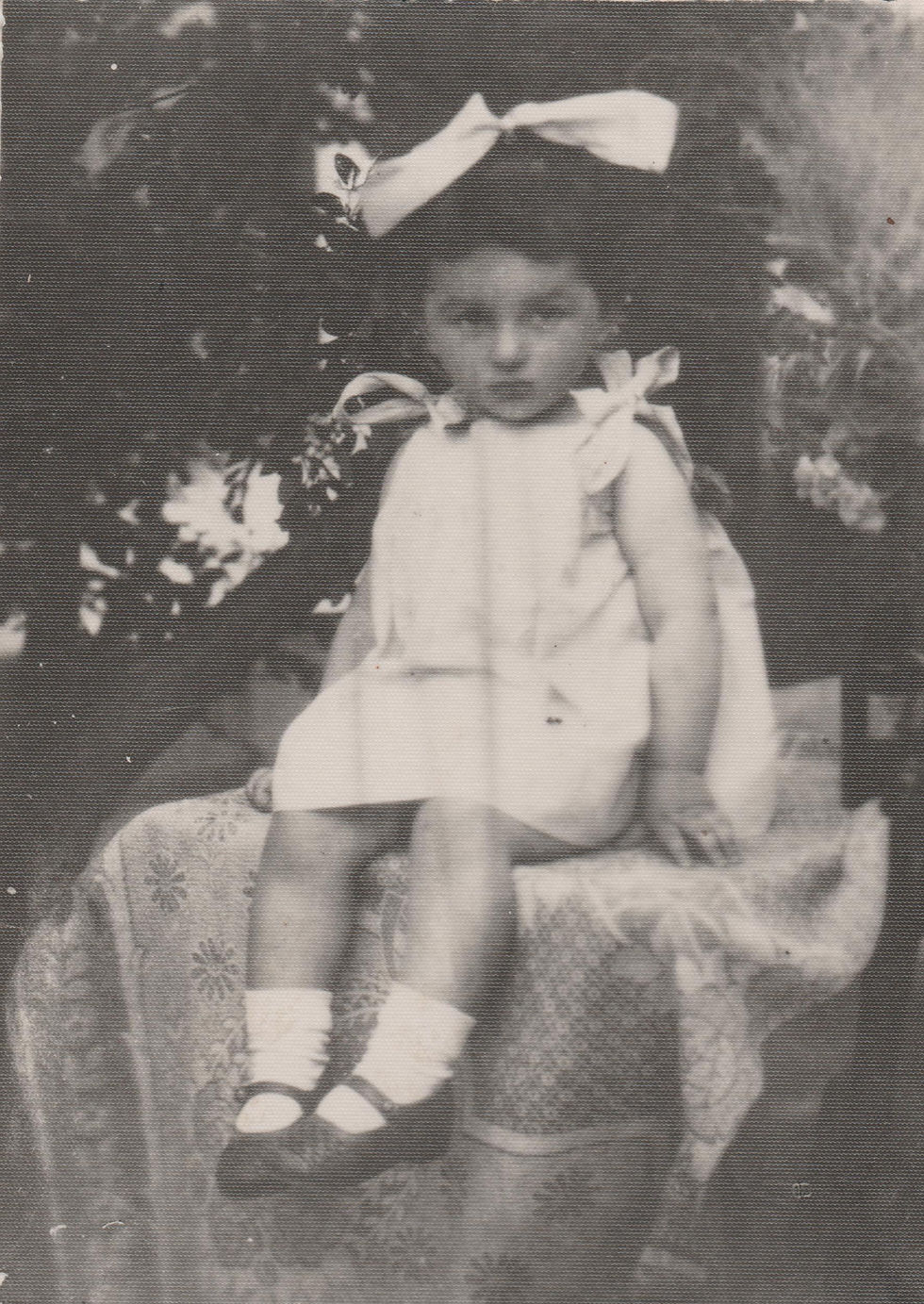Фира Усатинская (Гринзайд) «Надо описать мою, не самую страшную историю». [Свидетельство о румынском Холокосте]
- Nadejda Erlih
- 8 часов назад
- 87 мин. чтения

Продолжаем наш проект
1940-е. Трагедия на двух берегах Днестра.
Публикация материалов ЧГК по МССР в контексте семейной памяти
Архив НПЦ «Холокост». Коллекция «Холокост на территории СССР». Ф. 4, д. 115[1]
Автобиография
Я, Гринзайд-Усатинская Фира Овсеевна[2], родилась 25 декабря 1929 в местечке Згурица Сорокского района (на тот момент королевство Румыния, ныне Республика Молдова).
Мои родители: папа Гринзайд Овсей Мошкович, мама Колкер-Гринзайд Ита Моисеевна, ортодоксальные евреи. Папа был кантором в синагоге и продавал фураж для лошадей, чтоб прокормить семью — 6 человек. Мама была домохозяйкой. Мои родители были культурными людьми, знали иврит, идиш, румынский и русский языки. Большие любители книг, театра, музыки и т.д. Нас, детей, учили любить чтение, любить еврейскую культуру, трудиться, вышивать, вязать, любить наши праздники и религию. К 1940 все уже работали, кроме меня. Я помогала маме по хозяйству и училась в 5 классе румынской школы.
Когда в июне 1940 Молдавия перешла к России, все изменилось. Синагогу закрыли, папа работал сборщиком утильсырья, старшая сестра, Туба, уже была замужем и жила в Сороках, Пая работала в ателье, я и Маня пошли учить язык в русскую школу. В конце 1940 к нам переехала жить моя бабушка Гита, 92 года. В 1941, когда началась война, нас оказалось 7 человек, старшая сестра Туба вернулась домой. Несколько раз пытались выбраться к переправе через Днестр, но ни разу не удалось.
Таким образом, мы оказались в Згурице, когда 7 июля 1941 к нам зашли румыны и немцы. С первого момента до марта 1944 мы пережили Холокост.
Вернулись в Молдавию в июне 1944 и обосновались в Сороках. Начинали жизнь с нуля!
До победы еще целый год.
Папа опять работал сборщиком утильсырья, мама была домохозяйкой, Туба работала бухгалтером в Заготзерне, Пая и Маня учились на курсах учителей младших классов, я записалась в седьмой класс русской школы. Мне было очень трудно: я еще не знала языка, у меня не было основ алгебры, геометрии, физики и химии. В 1948 я закончила десятилетку Сорокской русской школы с одной четверкой по русскому языку.
В этом же году поступила в Черновицкий Государственный Университет на физико-математический факультет, отделение математики. Время было тревожное: космополитизм[3] и пр. В 1953 я закончила университет и получила направление в техникум в Винницкой области. Случилось непредвиденное: директор Сорокской вечерней школы Говоров открепил меня от Винницы и привез приказ на меня на работу в его школе. Таким образом, мою учительскую работу я начала в Сороках. Читала математику, черчение и астрономию в старших классах на русском и молдавском языках.
Летом 1954 работала в пединституте, а в октябре вышла замуж за инженера-механика А.Ф. Усатинского. Он меня увез на целину, в Кокчетав, где работал инженером Сельхозуправления. В Кокчетаве я работала в русской школе. В Кокчетаве родилась дочь Татьяна.
В 1957 мы переехали из Казахстана на Украину к родителям мужа, в Макеевку Донецкой области. В Макеевке у нас родилась втора дочь Анна. В Макеевке мы жили и до декабря 1992. К этому времени обе дочери — инженеры-математики, были уже замужем, и у нас уже было три внука.
В 1992 выехали в Канаду. Другая страна, другой язык — эмигранты. Канада встретила нас очень приветливо. В настоящем Канада — наша третья Родина после России и Израиля. Живем хорошо, правительство нас полностью обеспечивает.
В этом году (2009) мне исполнилось 80 лет. Дети работают. Старший внук — адвокат, второй внук будет доктором, внучка учится в университете на медсестру. Еще мечтаем, да сбудутся мечты!
Гринзайд-Усатинская Фира-Фрима
26 августа 2009
Предисловие
Я начала писать о моей семье во время Холокоста (я имею в виду моих родителей и сестер), еще живя в СССР, но забросила эти записки, так как думала, что об этом достаточно написано, как писателями, так и очевидцами, прошедшими ужасы Холокоста.
Уже в Канаде я услышала по радио, по телевидению и прочла в газетах, как стараются некоторые внушить мировой общественности, что не было никакого Холокоста. Отрицатели внушают нынешнему поколению, что Холокост — выдумка евреев, что никаких лагерей смерти не существовало. Известно, что фашисты еще во время войны старательно уничтожали следы своих злодеяний. Тем не менее, они не успели уничтожить все лагеря смерти, кроме того, остались живые свидетели, способные рассказать об этих лагерях и о гетто, которые покрывали всю Европу, в том числе Украину.
Мне стало страшно, больно и обидно.
А ведь всегда было так (об этом свидетельствует многовековая история преследования и убийств евреев по всей Европе), что приходит новое поколение, которое не имеет представления о преследованиях евреев, об издевательствах над ними, им трудно даже представить, что люди могут издеваться над другими людьми только потому, что они другой национальности. Это новое поколение может поверить, что Холокост — если не выдумка, то уж, по крайней мере, все преувеличенно в описании страданий. Вот так было всегда: новое поколение евреев надеется, что с ними ничего подобного не может случиться. Вообще, нормальному человеку трудно поверить (часто невозможно поверить!), что люди способны придумать такие изощренные методы массового уничтожения мирных людей, женщин и детей. К сожалению, история преследования евреев повторяется один-два раза каждые 100 лет и всегда застает евреев врасплох, потому что по натуре своей мы дружественные люди, добрые, отзывчивые.
Кто способен представить себе, что твой лучший друг готов уничтожить тебя? К счастью, не все друзья предатели. Я далека от мысли, что мы лучше других народов, но твердо уверена, что евреи не хуже других людей. Поэтому я начала выступать перед канадскими школьниками и студентами, а также на организованных Еврейской федерацией ежегодных симпозиумах в Калгари, посвященных Холокосту и трагедии еврейского народа, которые проходили в Mount Royal University.
Естественно, я не собираюсь спорить с, так сказать, «историками», которые стараются смягчить преступления фашистов во время Второй мировой войны по отношению к другим национальностям и особенно по отношению к евреям. Просто я решила, что надо описать мою, не самую страшную историю, потому что мы остались живы, хотя бы для того, чтобы мои внуки и правнуки могли прочитать и помнить о судьбе их предков, чтобы услышали от меня лично, как над нами издевались, как нас унижали, как нас убивали. Чтобы они знали: Холокост — это не выдумка. И даже то, что я пишу далее, — это лишь миллионная доля того, что мы пережили, что мы выстрадали! Разве можно описать во всех подробностях ежедневные страдания в течение почти трех лет с июля 1941 по март 1944?!
Мы свидетели. Мы рассказываем.
הימל און ערד האָבן געשוואוירן
אַז גורנישט זאָל ניט ווערן פאַרלאָירן
Ымыл ын Эйрд от гешвойрн,
Аз гурныт зол ныт вейрн фарлойрн[4].
Перевод:
Небо и земля поклялись, что ни одна тайна не должна оставаться нераскрытой.
Шолом Алейхем. Блуждающие звезды
Бог помог нам выжить, чтоб было кому рассказывать через много лет, через какие страдания мы прошли.
Мой папа Ишие Гринзайд
[Жизнь при румынах до 1940]
Я родилась в местечке Згурица, Сорокского района, на севере Бессарабии. Згурица — почти чисто еврейское местечко[5]. Вокруг было много молдавских сел. Згурица расположена на холме. С одной стороны небольшой обрыв, где текла мелкая речка[6], стояла баня, была старая водяная мельница, возле которой 100 лет назад проходила основная трасса в Сороки. С другой стороны были новые планы[7], прекрасное поле для игры в футбол, подальше было еврейское кладбище, которое соседствовало с каменными карьерами. Внизу от холма шла дорога к холмам, фермам и первая дорога в Макаровку. Осталась четвертая сторона — здесь было село Згура впритык к Згурице. Место красивое, особенно летом, когда все покрывалось зеленью, цветами.
Через почти середину местечка проходила трасса из Сорок мимо новой мельницы к железнодорожной станции Флорешты, по этой дороге было еще ответвление, ведущее к железнодорожной станции Дрокия[8], меньшей размерами, чем Флорешты.
Считалось, что Згурица — большое местечко. У нас была прекрасная библиотека на идиш, прекрасный театр, больница где-то на 50 мест, синагога, большая аптека, банк и даже нотариальная контора. Лет 10 работала еврейская гимназия, была румынская школа бесплатная и в обязательном порядке. Но главное, в Згурице жили бедные, но веселые евреи.
Итак, я родилась в Згурице 25 декабря 1929 в семье ортодоксального еврея Ишие Гринзайда. Я была четвертая девочка по счету. До меня у моих родителей было еще два мальчика, но они умерли от дизентерии в детстве. Тогда дизентерию еще не лечили. Дали мне имя Фрима и, как водилось, все мои данные записали в одном из молебников. Но во время войны наш дом сожгли, и никто точно не помнил, когда я родилась: то ли в 1928, то ли в 1929. Медицина вообще считала, что я родилась в 1931. Я решила вопрос сама: меня записали Гринзайд Фрима 25/XII 1929. Секретарша по ошибке записала меня не Фримой, а Фирой (перекрестили), и я стала Гринзайд Фира Овсеевна.
Мой отец был родом из Згурицы, образованный человек по тому времени, очень верующий, мы соблюдали субботу и все еврейские праздники по всем правилам. У папы был прекрасный голос, он отлично рассказывал притчи, рассказы и еще импровизировал их. Папа был кантором в синагоге, но на этом прокормить семью было невозможно, поэтому он покупал и продавал зерно. Тяжело было, жили небогато, но честно и как-то сводили концы с концами.
Моя мама, Колкер-Гринзайд Ита Моисеевна, родилась в Сороках в культурной семье, была образованной, очень доброй и большой умницей. Она не работала, семья была большая, и работы по дому было больше, чем достаточно. Мама была среди первых женщин-евреек, отстаивавших равные права женщин. Она была корректной, смелой женщиной, преданная мать и жена.
У нас в доме читали еврейские книги из библиотеки вслух для всех. Читали при свете керосиновой лампы в спальне родителей после рабочего дня или по выходным. Я и моя сестра Маня только слушали и засыпали в кровати. Но нам привили любовь к чтению книг на всю жизнь. Я запомнила только три книги: «Процесс Бейлиса», «Гибель Титаника» и «Идиот». Книги не только читали, но обсуждали прочитанное — это была школа жизни.
Еще мои родители любили театр. Когда уже почти подняли дом, который строили двадцать с лишним лет, родители сдавали комнату приезжим артистам бесплатно, но зато мы имели возможность ходить в театр каждый день. Кушали театр и закусывали хлебом! А какие это были труппы артистов! Я запомнила Сиди Таль[9] и Анну Гузик[10]. Эти труппы артистов из Кишинева и Румынии играли на еврейском языке, это были мастера своего дела. Конечно, я помню только то, что слышала, когда мне исполнилось семь-восемь лет: «Колдунья», «Блуждающие звезды», «Тевье-молочник», «Молкалы солдот», «Иосалэ», «Ды исоймы», «А мон а лемешке» [11] и т.д. Я даже «участвовала» в обсуждении этих вещей на семейном совете. Эта школа жизни, любви, страдания и доброты! Я помню песни из многих постановок (на еврейском).
Нас приучили трудиться: убирать, вязать, вышивать, штопать, готовить пищу. Дисциплина была железной. Учили нас чтить родителей и вообще старших по возрасту. Учили делать добро не на словах, а на деле. В местечке было много бедных евреев, и им помогали посылками халы, рыбы и мяса на субботу, а к праздникам тем более. Помогала синагога, а разносили посылки мы, дети, в том числе и я. Воспитывали нас верить в Бога и нашей религии.
Помню, к нам приехал Штефанештский ребе[12], известный в наших краях, и конечно, мой папа записался на встречу с ним, и конечно, взял меня с собой. Передо мной был старый седой человек в белой одежде, с бородой и очень выразительными глазами, в нем было что-то неземное. Он встал, положил руку на мою голову и благословил меня! У меня прошла дрожь по телу! Возможно, его благословение помогло мне выжить все ужасы лагерей и гетто! Выходили мы от него задом наперед, папа так велел. Разумеется, у папы был совет с ребе, его содержание не помню.
Особенность жизни в местечке: дружба, помощь друг другу всегда и везде и во всем. Мы, дети, играли и ходили по полям. Помню, как играли возле каменного карьера и, конечно, по глупости повисли на карнизах карьера, и под нами были глубокие ямы, кое-где даже с водой. Нас оттуда сняли крестьяне, которые проходили мимо. Никто никогда не обижал нас. Чтобы было понятно об отношениях между нами и живущими поблизости крестьянами, я расскажу случай, который мне рассказал мой папа.
В Згурице базары бывали два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Дорога, ведущая из многих сел на базар, проходила мимо нашего дома. В базарные дни движение подвод было довольно густое. Вот в один из таких дней моей сестре Мане вздумалось перебежать дорогу и, не рассчитав расстояние, она чуть не попала под ноги лошадей подводы, на которой ехали муж, жена и двое детей на базар. В этот момент папа мой был рядом. Испугавшись за жизнь ребенка, он сгоряча ударил хозяина подводы по лицу. Хозяин уехал. Папа забыл этот случай. Прошел примерно год с гаком. В один из базарных дней папа заскочил в крейчин[13] (типа столовой) разменять деньги. Когда он уже выходил, к нему подошел крестьянин и говорит ему: «Я прошу тебя, выпей со мной вина за общее здоровье». Папа спешил, но отказать человеку выпить с ним за его здоровье — это была бы его обидеть. Папа сел за его стол, всем налили вина. На столе была крестьянская закуска: домашняя колбаса, хлеб, сыр, пироги. Выпили, закусили (папа ел только хлеб с сыром!), папа отблагодарил хозяина и собирался уйти, когда этот крестьянин говорит ему: «А ты помнишь такой случай с твоей дочкой? Это я тот крестьянин, которого ты ударил по лицу, не вникши в суть дела!» Папа начал извиняться и пр. Не в этом дело, дело в благородстве этого крестьянина. Папа говорил, он был готов сквозь землю провалиться со стыда. Они еще выпили за дружбу и т.д. Папа мне сказал: «Запомни, доченька, нельзя ничего делать сгоряча. Человек должен продумать свои действия. Надо во всем разобраться, прежде чем судить, чтоб потом не мучила совесть, чтоб не было стыдно перед самим собой». Я рассказала один из многих благородных поступков наших соседей-неевреев. Мы жили дружно со всеми, помогали часто и неевреям в случае болезни и т.д. Но оказалось, что не все люди благородные!
Мы встречали все еврейские праздники с песнями и музыкой, ходили по улицам, пели, танцевали, и никто никогда нас не трогал. Справляли свадьбы, именины, юбилеи так же с музыкой и танцами на улице. Помню, как наши соседи-крестьяне выходили на улицу и пели и танцевали под нашу музыку!
Особенно на праздник Симхат Тора[14]. Как я любила этот праздник! Как в темную безлунную ночь евреи ходили с фонарями по улицам, пели на иврите, танцевали: вели Гобу[15] из синагоги в специальный дом на банкет для всех желающих евреев. Незабываемое зрелище! Незабываемое веселье! Так веселиться умели только в местечках, возможно, мне это кажется?
Были друзья, настоящие друзья, были соседи, были родственники. Жили трудно, но по субботам и праздникам веселились от души (на короткое время забывали обо всем плохом!). Никаких радио или телевидения еще в помине не было, пели сами, рассказывали притчи и мансы[16], танцевали. Мой папа был всегда во главе, в нем жил несостоявшийся артист. Я помню, даже после войны, когда в доме собиралась молодежь, папа их развлекал, а ведь ему уже было под 60 лет! У нас была гимназия платная, там учились старшие сестры Туба и Пая, и то только 3 года — не хватало средств для оплаты. Я и моя сестра Маня учились в румынской, бесплатной школе.
В 1939 вышла замуж моя старшая сестра Туба. Свадьба была еврейской, очень красивой, и гостей было много. Гуляли до утра: родные, соседи, друзья. В гостях были родственники жениха Шаи Файнман — семья Стариковых. Мой дядя Мортыхы с семьей — 4 человек. Мой дядя Янкыль с семьей — 4 человек. Сура с семьей — 4 человека. Циля с мужем. Моя тетя Туба с мужем и тремя детьми. Их сын Бейрыш был моим женихом! Ничего смешного, все по всем правилам. Когда я родилась, четвертая девочка (очень хотели сына!), конечно же, пришлось принять все, как Бог ведет! У моей тети Тубы умерли первые два младенца (не знаю почему). Она обратилась за советом к Ребе, он ей предложил, чтоб она отдала следующего ребенка в большую здоровую семью. Бейрышу было уже около 2 лет, когда я родилась. Моя тетя Туба приехала в Згурицу и заключила «сделку» с моими родителями: она отдает своего сына Бейрыша как жениха Фрымы в наш дом. Мои родители дали в «приданое» за меня несколько леев (типа копеек)[17], разбили тарелку (тноем[18] — засватанье — состоялось!). Мне было 2 недели от роду. Правда, мои родители и родители жениха ввели поправку: когда мы вырастем и по разным причинам не подойдем друг другу, мы имеем право аннулировать этот договор. К большому несчастью, вся семья Вайсман была убита во время Холокоста. Так судьба распорядилась по-своему! Об этом потом. А пока наступил 1940 год. В Румынии стало неспокойно. Вечерами мы все сидели дома. Боялись погромов.
[Жизнь при Советах 1940–1941]
29 июня 1940 в Згурицу пришла Советская Власть. Ее встретили наши коммунисты с флагами, музыкой и т.д. Все остальные люди просто не знали: то ли радоваться, то ли плакать.
Просто сидели и ждали, что еще будет. Мы относились не к богатым, и нам особенно бояться нечего было.
Суть Советской политики узнали быстро. Ночами стали исчезать целые семьи богатых и не богатых.
Шли всякие слухи. Было страшно. В местечке у нас был очень бедный безграмотный сапожник (имел 12 детей), но от природы одаренный умением что-то сочинить. Он как-то остановил папу и сказал ему:
«А рыбы[19] Ишие, Вы знаете что такое СССР? Я Вам скажу:
Сыз ныт гевейн — Не было.
Сыз ныт ду — Нету.
Сы вет ныт зайн — Не будет.
Рецих ныт айн! — Не внушайте себе!»[20]
Он знал папу с малых лет и доверял ему.
Мы жили неплохо при Советской власти, папа работал заготовителем утильсырья (надо же было жить). Трудяга, честнейший человек, по-своему образованный. Он и моя мама знали не только иврит и идиш, они читали, писали и разговаривали по-румынски, по-украински и по-русски. Папа пользовался уважением властей и народа, работал и обеспечивал семью.
К 1940 я закончила 5 классов румынской школы. Мы на улице говорили только по-румынски, таков был приказ: «Vorbiți numai românește»[21].
Я опять пошла в 5 класс уже русской школы. Увы, языка никто не знал. Мне помогали мама и папа.
Если говорить об учителях, все были из России, это были настоящие учителя — артисты, импровизаторы, рисовальщики. Запомнила особо, как на уроке истории древнего мира учитель объяснял и изобразил мамонта — это был бесплатный спектакль! Память детская, где она сейчас?! Уже к концу учебного года мы сносно говорили по-русски! Были пионерские отряды. Вожатые все из России. Учить язык помогали. Но все мероприятия и походы намечались на субботу или праздники: отвлекали от религии.
У нас изменения произошли только в том, что синагогу закрыли, собираться молиться запретили, но дома папа по-прежнему молился утром и вечером. Субботу и праздники проводили дома по всем правилам при закрытых дверях. Бывало даже у нас и в других домах: собирались на миньян[22] 10 или больше евреев для молитвы, особенно если был юрцайт[23] (годовщина смерти) или другие мероприятия. Итак, под запретом, но мы оставались верующими.
Вот уже год советской власти почти позади. Доходили слухи о том, что происходит в Германии, но никто не верил этим слухам. Говорили: «Сгущают про Германию, где евреям жилось очень хорошо. Германия двадцатого века не может совершать злодеяния». Примерно так рассуждали евреи у нас на лавке перед домом. А ведь они до 1940 получали газеты и на румынском, и на идиш, где были описаны жуткие случаи из жизни евреев в Европе, но, увы, не верили и не хотели верить. Дорого мы заплатили за это неверие…
Россия готовилась к войне, было много шума о нашей силе и нашей мощи, но действительность оказалась ужасной. Когда 22 июня 1941 началась война, мне шел двенадцатый год. Я слушала разговоры старших и многое запомнила. К этому времени у нас жила бабушка Гиталы, добрейшей души человек, образованная, культурная и очень порядочная, мамина мама, ей шел 93 год. Как только началась война, в Згурицу приехала моя сестра Туба. Мужа ее забрали в армию. Таким образом, нас было 7 человек. Еще был дядя Мортых с семьей из четырех человек.
Четыре раза было решено, что мы должны эвакуироваться, и четыре раза папа и дядя изменяли планы. Я свидетель разговора:
Дядя: Ишие, куда мы поедем, ведь мы неплохо жили с румынами. Ну, возможно, и будут немного грабить, а потом все будет по-прежнему.
Папа: Мортыхэ, мы не знаем, что может быть. Говорят, что мы, евреи, привели сюда Советы.
Дядя: Ишие, посмотри на эти подводы, полные багажа, и наверху Гиталы, а где сядете вы и дети? К тому же дорога через Шолканы и Рубленицу довольно опасна, говорят, что там грабят и даже убивают.
Папа: Знаю всё. Знаю, что в Сороках пожары, переправа работает только для военных. Очень удивляюсь, что военные не воюют, а, похоже, бегут. А что будет с нами?! Один Бог знает.
И так четыре раза грузили и разгружали подводы и остались в Згурице. Так рассуждали почти все не очень молодые хозяева. В местечке к этому времени оказалось от 8.000 до 10.000 человек. Тут было много жителей из соседних сел, очень много беженцев из Бельц. Ведь Бельцы в первые же дни войны разбомбили так, что там город был превращен в руины! Самое страшное, что молодежи почти не осталось: многие были на фронте, часть эвакуировалась. Остались в основном люди старше пятидесяти лет, беспомощные, больные и дети, много детей!
Папа рассказывал притчу. Послала жена мужа по воду, не было водопроводов, а колодцы или источники были далеко от дома. Прошла пара часов, а его все нет да нет.
Наконец, он появился с полными ведрами воды.
Жена: Боже милосердный, где ты был так долго, я уже и не знала что думать.
Муж: Понимаешь ли, Рухалы, я пошел, набрал воды и шел домой. Вдруг вижу — идут неприятельские войска. Я моментально вылил воду, не мог же я пройти с полными ведрами, чтоб им везло! Ну, думаю, побегу наберу воды. Только переходить дорогу — гляжу, наши войска идут! Не мог же я пройти дорогу с пустыми ведрами, чтоб им не везло! Так я простоял около часа, пока не прошли все наши войска. После этого, поверь мне, я бегал по воду, и я уже тут.
Жена: Мойше, сколько раз я тебе говорила, чтоб ты не вмешивался в дела государственные!
Так могли рассуждать раньше, две мировые войны показали, что война — для всех бедствие, начиная от новорожденных до покрытых сединой стариков и старушек.
Первые три дня оккупации
Итак, мы не эвакуировались и ждали румынских властей. Где-то с 4 июля у нас было безвластие. Советская власть, русские — ушли тихо, не предупредили никого, не объясняли, чтó нас ждет, может быть, тогда была бы другая реакция. Никто не знал, чтó будет с нами. Было спокойно, хотя эти четыре дня без власти могли привести к погрому. И некому даже было бы навести порядок, но всё обошлось. Все дрожали в своих домах. И только 7 июля 1941 к нам вошли румыны и немцы. Была попытка жителей встретить новые власти хлебом и солью, но как только подошли войска, раздался крик: «jidani la o parte!» — т.е. «жиды в сторону». И началась резня и издевательства.
Вернусь чуть назад. 7 июля утром мне сказала Маня, чтоб я сбегала в школу: на окне она оставила домино, лучше забрать их домой. Я помчалась, забрала домино и благополучно вернулась домой. Но я обратила внимание, что улицы совершенно пустые и что на новых планах большое количество телег с людьми. Прибежав домой, я об этом рассказала маме. При мне не было никаких эмоций, но мама поговорила с папой, потом к нам перешел дядя с семьей. Нас было одиннадцать человек в доме, и мы стояли в передней комнате и смотрели в окно. Мама не разрешила папе отлучиться от дома, так что все были у дверей и окон, когда сосед прибежал со встречи с румынами и немцами и закричал: «Евреи, быстро прячьте детей и себя, убивают наших!» Бедный человек, он еле бежал. Эта картина врезалась в мою память до конца моих дней. Мы все стояли у окон, когда буквально через пять минут началось что-то невероятное: по дороге мчались телеги с крестьянами, на улице стоял крик, гам людей, лошадей, стук копыт и колес и пух от еврейских подушек.
Ужасное, пугающее зрелище: даже потемнело от пыли и пуха в воздухе. И вдруг, едет телега, в которой хозяин, жена, дети, и он соскакивает с телеги, берет большой камень и бросает в папу, слава Богу, не попал. Он первый разбил окна в нашем доме, и если бы его не удержали жена и дети, он бы нас всех перерезал бы! Увы! Я тоже поняла, что за телеги ждали на планах: наши соседи-крестьяне приехали грабить, ждали сигнала начать погром. Слышны были крики, стрельба и шум, шум приближающейся смерти!
По приказу папы мы все покинули места у окон и ушли в самую заднюю часть дома: в кухню. Бабулю и сестер спрятали на печке, мы, дети, сразу стали взрослыми, сидели без звука с мамами и папами. Грабили всех, и наш дом тоже. Что разбивали, что выбрасывали, а в основном забирали всё. Лезли на чердак, не стыдились, что мы тут и всё видим и слышим. А мы сидели в кухне и дрожали все от страха. Нас никто не трогал. В кухню шум с улицы не доходил. Наше положение было ужасным, но никто из нас еще не знал, что происходит в местечке. Еще надеялись, что после погрома станет спокойно.
Так прошел долгий летний день 7 июля — страшный день. О пище никто даже и не вспоминал. Правда, пили воду. Вот так дрожать и волноваться, так страдать пришлось с 11 утра до 10 вечера, когда стало тихо, перестали грабить, боясь темноты. Зажгли свечу, и мама достала хлеб и какие-то овощи, чтоб накормить детей — ведь целый день никто даже не вспоминал о еде. Боже, как действовал этот меч над головой, а бедные мои родители еще больше волновались за судьбу своих дочерей!
Мы начали закусывать, и вдруг через окно кухни к нам ввалился человек — еврей, мы все его знали, и произнес: «Спасите меня, за мной гонятся солдаты и хотят убить. Увидев свет в окне, я сюда прибежал». Все в ужасе! Папа с дядей выглянули на основную улицу, потом во двор и, убедившись, что никого нет поблизости, вернулись на кухню. Конечно, моментально потушили свечу, доедали хлеб с водой в темноте. Я сомневалась, что родители и дядя с тетей вообще ели что-нибудь. Этого Хайма посадили за печкой, и он рассказал нам, чтó делается в местечке. Говорили тихо, старались, чтоб мы не услыхали всё, но напрасно, наше внимание было сосредоточено на Хайме, ловили каждое слово. Оказалось, что за первый день погрома в Згурице уже насчитывается больше 200 убитых, причем убиты жуткой смертью[24]. Причем число застреленных солдатами было меньше, чем убитых крестьянами!
Так мы узнали, что недалеко от нас сейчас родные хоронят Зейгерыл (забыла имя), которому выпустили мозги, и рядом убит Кандел, подросток 15 лет — ему выпустили кишки: они пытались оказать сопротивление грабежу и т.д. Все поняли, что дело обстоит серьезно и надо прятаться. Совет старших принял решение, что мы опускаемся в башку[25]. Время уже было час ночи. Но о сне и речи не могло быть. Этот Хаим рассказал столько случаев убийств и расстрелов, что ужас охватил всех.
Я не рассказала о положении нашего дома. Дом этот строился долго и тяжело — двадцать лет. К моменту войны верхняя часть дома (пять комнат, коридор и прекрасная кухня размером с хорошую комнату) уже была готова, за исключением мелочей — ставней, хороших дверей с улицы и пр. Успели обставить жилье мебелью, пусть не роскошно, но прилично. Сзади возле кухни был выход на балкон и так как дом стоял на холме, то сзади он оказался двухэтажным. С балкончика вела лестница во двор, а со двора был вход в первый этаж (на три комнаты) — башка. Была дверь и окна, и даже ставни, но башка была недостроена внутри. Там держали всякие вещи. Двор у нас был закрытый: спереди остатки старого дома, что служили сараем и жильем для лошади, между старым и новым домом были ворота, слева нового дома были два сарая и туалетная, напротив дома была стена какого-то помещения, довольно высокая стена, а справа был каменный забор высотой два метра. Таким образом, двор был закрытый.
За первый день погрома к нам во двор никто не попал. До сих пор не могу понять, как этот Хаим, немолодой человек и довольно полный, мог проникнуть к нам во двор, да еще влезть в окно! Видать, страх перед смертью придал ему крылья!!
Итак, в час ночью мы все, сохраняя абсолютную тишину, спускаемся во двор в башку. Бабушку понесли на руках, даже скрипа не было! Только успели войти в башку, там нам постелили на земле какие-то тряпки, как раздался стук в ворота — грянул гром. Все в ужасе, папа и дядя идут открывать ворота, мама и тетя стоят за стеной и следят, что еще будет, а все остальные дрожат от страха в башке. Оказалось, что недалеко от нас жил крестьянин, и он пригласил вооруженного солдата пойти к нам забрать лошадь. Разумеется, они забрали нашу лошадь и ушли, все вздохнули с облегчением, закрыли ворота и вернулись в башку.
Очень удачный случай. Мы, дети, уснули, но взрослые не спали, и где-то в 2 часа ночи папа и дядя вышли во двор подышать воздухом и обсудить положение и что делать. И вдруг они услыхали еврейскую речь в соседнем дворе, который был отделен от нашего двора каменным забором, еле дыша они подошли к забору и убедившись, что там евреи, которые вышли покурить во двор, они тихонько подали голос. Оказалось, что в соседнем доме собралось человек тридцать евреев, которые решили: будь что будет, надо держаться вместе, так как никто не мог даже предположить, что день грядущий нам готовит.
Совет наших мам и пап решил, что надо перебраться через забор на ту сторону и быть вместе со всеми, разделить судьбу всех евреев. Решили и начали перебираться через забор: лестницы с одной стороны — лестницы с другой стороны. Здесь всем детям и женщинам помогают папа, дядя и Хаим, а с другой стороны их принимают мужчины из дома. Самое трудное переправить бабушку. Справились и еще соблюдали тишину. Пока суть да дело, было уже около 4 утра, стало светать, ночи летние коротки, мы сидим вместе с остальными и ждем. Долго ждать не пришлось: уже в пятом часу утра начали появляться солдаты с крестьянами, и началось что-то невообразимое: крестьяне говорят, что им нравится платье — сестра снимает его и отдает, другому понравились тетины туфли — она их отдает, и т.д. без конца: я хочу это, я хочу то.
Не знаю, как остальные люди в других комнатах, но там, где мы были, все мужчины остались в нижнем белье, без туфель, так же раздели почти всех женщин, не раздели нас, детей, и бабушку. Как-то папе удалось сбегать в старый наш дом и забрать рабочую одежду, таким образом «приоделись».
Вот каким унижениям и оскорблениям нас подвергли. Но мы были готовы отдать всё до последней ниточки, только бы не убивали. Каждый приход солдат с крестьянами мог быть нашим ужасным концом!
Где-то в 11 утра или в 12 часу 8 июля начали нас выгонять из дома румынские солдаты и, не скрывая, говорили, что нас гоняют к реке на расстрел. Папа мой сделал попытку помочь нашей бабушке и получил прикладом по голове, счастье — солдат попал в ухо, и, шатаясь, папа сумел выскочить из дома (впоследствии он оглох на это ухо). Бегут несчастные женщины с маленькими на руках, другие за полы мам держатся. Бегут, прощаются на ходу. Моя мамочка держит меня за руку и всем приказывает (сестрам): «Держитесь возле меня, погибнем все вместе».
Мы уже у реки, недалеко от бани. Вокруг нас на холме — пулеметы. Папа все время молился молча. Проходит час, два — мы еще живы, а еще через час убрали пулеметы. Кто распоряжался нашими жизнями, мы никогда не узнаем! Лето 1941 было очень жарким, мы на открытой местности, солнце беспощадно палит! О кушанье никто даже не вспоминает, но пить хочется невыносимо. От жары речка почти высохла, да и доступа к ней нет: там солдаты поят и купают лошадей. Жажда измучила всех. Там, где прошли лошади, от подков образовались ямочки и заполнились водой — находка. Лежа на животе, пью эту ценную жидкость. Еще выход сбить жажду: рядом с нашей поляной большое поле ранней капусты, мы не воровали, мы ели эту капусту как самое дорогое блюдо на белом свете! Легко рассказывать, но как нам было тяжело! Наконец, солнце начало садиться, жара спадала, и мы могли подумать, что еще живы.
А как же наша бабуля?! Самый актуальный и больной вопрос. Я, кажется, уже писала, что румынским языком мы все владеем неплохо, а охраняли нас румыны. Моя сестра поговорила с солдатами (не знаю, сколько она уплатила!), и к вечеру разрешили подняться к дому папе и Тубе, чтоб принести бабулю. Было рискованно, но нужно. Мы ждали с трепетом, прислушивались, не стреляют ли в том месте, где был наш дом.
Прошло где-то около часа, и мы увидели папу и Тубу, несущих бабушку. Они нашли в нашем доме и в соседнем какие-то тряпки, старое одеяло, покрывало, полотенце, простынь. Из этих тряпок соорудили «ложе» для бабушки. Кроме того, они принесли чашки и чайник, и кусок черствого хлеба — целое богатство для нас. Те, кто грабили нас, оставили ненужные вещи!
Одним словом, мы уже были все вместе и могли пообедать и поужинать кусочком хлеба с водой!
Какие-то тряпки постелили на земле и нам, и дяде с семьей — прекрасная кровать. Но спать не давали.
Мы видели своими глазами, как немец на мотоцикле подъехал к нашему дому (он выделялся на фоне неба), что-то брызнул, потом выстрел, и дом загорелся, и так многократно: Згурица горела таким ярким пламенем, что, казалось, солнце взошло опять! А тем временем солдаты ходили вокруг нас и кричали, что город поджег какой-то Бениамин, что он находится между нами, и если мы его не выдадим, всех нас расстреляют! Эта трагикомедия продолжалась пару часов. Потом вроде всё стихло, слышен был треск горящих домов и было очень светло, но мы дремали: ведь какой был день?!
Но вдруг то слева, то справа от нас раздавались такие вопли, такой плач и крик, что волосы на голове стояли дыбом! Страх, ужасный страх! И так ночь напролет. Старшие и глаз не сомкнули.
Стало понятно, что слева от нас и справа от нас еще есть лагеря и что там насилуют, издеваются и даже стреляют. Ох, эти крики о помощи! Но каратели были без сердец!
Настало утро 9 июля. Наши солдаты-стража решили, что они тоже имеют право на удовольствия и грабеж. Некоторых евреев обыскивали и забирали всё ценное, что еще осталось на них. Но самое страшное, стали уводить девушек к себе в дом и насиловать их. Очередь пришла нашим мамам и родне кричать и плакать.
Этим бесчинствам положили конец раз и навсегда немцы. Я писала, что старая дорога вела через старую мельницу. Регулярные немецкие войска двигались по старой дороге. Это были обычные немцы — люди, а не фашисты. Вот они остановились, услыхав крики, что они сказали румынам — мы не знаем, но сразу выпустили девушку, которую ввели в будку (имен не называю, я училась с ней в одном классе, где-то есть она или ее дети!), и больше насилий в нашем лагере не было. Грабить продолжали, но это было не ново для нас: мы отдавали и те крохи, что осталось спрятанным на теле, только чтоб не трогали детей!
Когда нас выгоняли на расстрел, многие потеряли друг друга, так что в нашем лагере был ребенок, но не знал, где его родители, и наоборот, а то кто-то не знал, где жена или муж — страшные трагедии.
Один из таких мужей упросил стражу, чтоб ему разрешили подняться на холм, где стоял его дом, чтоб посмотреть: может, жена в доме. Я забыла имя этого мужчины, он был еще довольно молодой, его жена Шпринця была красавицей. Я ее запомнила, потому что в последний праздник Симхат Тора все евреи из синагоги привели Гобу и папу-кантора в ее дом, где состоялся пир на весь мир.
Он отпросился у стражи, и ему разрешили подняться к дому. Мы наблюдали, как он поднимался, и вдруг душераздирающий крик и почти в это же время выскочил откуда-то мотоцикл с немцем, и немец стал стрелять. К несчастью, он его не убил, а только ранил в бедро. Это все на наших глазах.
Дом их стоял прямо над обрывом, и с нашего места все было видно! Вот эту «картину» мои родители не смогли скрыть от меня. Впервые в моей жизни я увидела, как стреляют в живого, ни в чем не повинного человека! Он несчастный вскрикнул от невыносимой боли душевной: на пороге их дома лежала застреленная Шпринця. Он остался лежать недалеко от жены, только раненный, неподвижный!
Этот длинный (бесконечный) июльский жаркий день — пытка для всех, человек стонал, звал на помощь, но никто ему не мог помочь, потому что смерть угрожала каждому, кто посмел бы двинуться в том направлении. И только к вечеру разрешили 4 евреям подняться и принести его вниз. Затаив дыхание, мы наблюдали, как эти четверо поднимались на холм, как несли его вниз. То, что я увидела, не передать словами: рана и вокруг нее кишела червями, которые ели его живого. Как помочь ему? У нас даже воды не было. Меня увели от этого зрелища. Он погиб от инфекции!
В этот же вечер Туба и папа опять поднялись к сгоревшему нашему дому, авось найдут что-нибудь съедобное! Этот их поход чуть не закончился трагедией: за ними погнался немец и стрелял. К счастью, не ранил никого. Их спасло то, что они знали все закоулки во дворах этого места. Представляете, как мы ждали их, ведь видели все, как мы плакали и страдали, пока они появились у реки. Кое-что принесли, но риск был громадный. Уж голод мучил нас прилично. Мы уже успели уничтожить всю капусту и даже корни и траву. Ночь была неспокойной. Издевательства продолжались. Крики с двух сторон продолжались, насиловали всех подряд. Нас не трогали.
Поход в никуда
Наступило утро 10 июля. Где-то в 10–11 часов утра нас подняли и погнали под конвоем в сторону Дрокии. Попытались понести бабушку, но поняли, что это невозможно. Оставили ее на обочине дороги. Говорили солдаты, что наш шеф де пост[26] дает десять подвод для старых и больных людей. Правда, мы увидели бабулю в Дрокии. Но это был последний раз, когда мы ее увидели. Потом, через 3 года, мы узнали, что недалеко от Дрокии всех людей с подвод расстреляли. К большому сожалению, никто не мог, а может, не хотел показать место расстрела.
В первый день, когда нас погнали в неизвестность, моя Туба, чудом сохранившая свои часики (часы тогда еще были редкостью), обменяла их у солдата стражи на буханку хлеба: солдатам выдали паек, чтоб кормиться в дороге. Боже мой, какой это был вкусный хлеб! Никакие деликатесы или торты не могут сравниться с ним! Семья немаленькая, да семья дяди — каждому достался шматок хлеба. Но это был хлеб, которого мы уже двое суток даже не видели! Ели так, чтоб не дай Господь, крошка упадет. Мало, совсем мало, но заморили червяка, и даже стало легче ходить. Так мы отшагали до станции Дрокия, где была объявлена остановка (солдатам надо поесть и отдохнуть). А мы? Мы были очень рады остановке, ведь шли мы под палящим солнцем без остановок, без воды и еды! Остановка была у какого-то водоема и колодца. Впервые имели возможность умыться, попить вдоволь и поесть всё то, что можно собирать по дорогам Молдавии: вдоль дорог умные люди посадили фруктовые деревья, да и огороды крестьян здорово пострадали. Нет, мы не воровали, мы брали то, что могло нам хоть немного утолить голод.
Солдаты кричали, стреляли, но остановить нас было невозможно, люди не ценили своей жизни, предпочитали смерть, чем этот невыносимый голод. Заскакивали в огороды, что-то срывали и бегом назад. Это было доступно тем, кто был помоложе, а бедные старики и старушки?! А женщины с маленькими детьми?! Да простят нас крестьяне, для которых мы были саранчой, но голод не тетка.
Чужие огороды и деревья спасали нас от голодной смерти!
В Дрокии увидели бабушку, передали кусочек хлеба, помидорчик, фрукты были слишком твердыми для нее. Мы попрощались с ней, мы тогда не знали, что это прощание навсегда!
На этой станции еще произошло такое событие: приехали трое военных в чинах, среди них муж нашей аптекарши. Он поговорил с ней, передал ей пакет, она подписала какую-то бумагу, и они уехали. Когда нас погнали дальше, аптекарша и ее помощница лежали без сознания на земле: они отравились. И еще двое мужчин повесились. Это был еще один урок девочке из местечка Згурицы. Муж аптекарши был молдаванином, я узнала потом.
А мы — опять пыльная дорога и палящее солнце. Сколько мы еще прошли, я не знаю, но опять нас остановили у водоема на ночь. К этому времени и кушать уже не хотелось. Еле умылись и легли на постеленную тряпку. Земля долго будет нашей кроватью, а звездное небо — покрывалом, и еще хорошо, если оно было звездным, а не дождливым.
Так потянулись бесконечно страшные дни гонений, унижений и оскорблений. Память моя удержала случай в одном из сел (их было так много на пути, что названий их не помню): крестьянин встретил нас хлебом, его гоняли, его пинали, но он забегал с разных сторон и раздавал хлеб. Он всю ночь пек хлеб для евреев. «Сегодня вы в беде, завтра это может случиться с нами», — кричал он. Это зрелище доброты и человечности довело до слез многих из нас. Он бросал нам хлеб через головы солдат. Это незабываемо. К сожалению, не помню другого такого случая.
Еще запомнилась мне одна ночь, то была ночь ада на земле. Как всегда, к концу дня нас остановили на ночлег возле речки или водоема. Умылись с дороги и упали на нашу кровать — землю. Где-то в 12 часов ночи началась гроза, пошел проливной дождь, и наш водоем-речка вышла из берегов и затопила всю поляну так, что мы стояли в воде кто по пояс, а кто по горло. Малышей подняли на плечи родители (меня тоже), а как же несчастные дети, у которых не было родителей?! Этот крик детей, плач и молитвы взрослых преследуют меня всю жизнь. И дождь, и гроза длились довольно долго, и этот плач и зов к Богу, крики, крики, крики… Господи, убей нас, но не мучай! А солдаты, укрывшись в будках, стреляли над нашими головами. Это был ад! Не знаю о количестве жертв. Но как только рассвело, нас подняли и погнали дальше. Мы все промокли до ниточки, вещи выкрутили, и в путь. Куда, зачем, кому это нужно? Вопросов много, ответа нет.
По этой же дороге на одной из остановок я стала свидетелем такого безобразия, такого издевательства, такого бездушия, такой невообразимой бессердечности и глумления! Объявлен отдых. Солдаты — стража — уже поели и развлекаются: увидели еврея с бородой (тогда бороды носили евреи религиозные, как руф, ребе, шойхет[27]), его подзывают поближе и бросают спиральки или резинки в бороду (или в седые волосы), потом выдергивают их вместе с волосами и кожей! Или подзывают более молодых мужчин и бьют сапогами между ногами, человек падает на землю, извивается, как змея, от боли, а солдаты хохочут и фотографируют. Боже, я стояла, как вкопанная, открытым ртом ловила воздух и наблюдала со слезами на глазах. Папа быстро подбежал сзади и унес меня от этого места, от нечеловеческого зрелища. А ведь я еще тогда не понимала суть происходящего.
Какие только не придумывали издевательства, мучения, пытки! Тяжело было, очень тяжело всем, но особенно старым людям и младенцам. У матерей груди высохли, кормить их нечем было, младенцы умирали на руках своих матерей. Появились первые младенцы в тряпках на обочине дорог и колодцев. Бедные мамы, несчастные мамы, оставляли своих малюток в надежде: а вдруг кто-то приютит ее младенца, и он останется живым! До чего же надо довести женщину, мать, чтоб она бросала своего ребенка! Даже у солдат не поднимались руки стрелять в младенцев.
Приблизительно через две недели в походе я увидела ребенка на обочине. Я остановилась, чтобы посмотреть, есть ли мама поблизости. Не обнаружив никого, я была готова поднять этого ребенка. В этот момент папа взял меня за руку — он всегда был моей стражей — и сказал: «Доченька, я понимаю, что ты испытываешь в своем сердце. Но, к сожалению, мы не можем помочь этому ребенку. Мы не имеем что кушать и не имеем достаточно воды, чтобы пить, и не говоря — чтобы умыться. Нас могут расстрелять в любой момент. У нас нет места на земле, чтобы спастись. Пойми, родная мама его оставила здесь не потому, что она его не любила: она надеялась, что ее ребенка кто-то подберет и сможет растить как своего собственного. И это единственный шанс для этого малыша остаться живым. Мы слишком долго здесь задержались, нас могут расстрелять». Он поднял меня на руки и унес, а я плакала.
Или перед глазами картина: четверо старых людей, поддерживая друг друга, еле передвигают ноги, по которым течет кал и урина. Остановятся — будут расстреляны, они и так уже мертвецы, у них дизентерия, они вскоре упадут, и так никому нет дела до этих несчастных, которые умирали по дороге, вдали от родных и знакомых. Дорога была усеяна трупами! На них и пули не тратили. Куда девались эти трупы?! То ли паразиты их съедали, то ли собаки и волки! Мы этого не знаем.
Так получилось, что нас не расстреляли, решили над нами провести опыт: как долго люди могут ходить под палящим солнцем без еды, почти без воды, босые (износилась вся обувь!), полуголые, измученные?! Я не знаю, вели ли солдаты учет, но ряды редели. Многие кончали жизнь самоубийством, сходили с ума (их тут же расстреливали), остались только те, кто еще верил в чудо или надеялись спасти детей, или просто не хватило силы воли самому уйти из жизни.
Итак, нас пригнали в Унгены, на берегу Прута (с румынской стороны был город Яссы). И тут нам объявили, что возвращаемся в Сороки, другой дорогой. У нас выросли крылья за ночь, утром уходили в Сороки, возможно, наступил конец нашим страданиям. Мечтали, мечтали, мечтали. Но опыт над живыми людьми еще не был закончен, увы! Назад шли другой дорогой, под конвоем, конечно. Дорога оказалась короче, а может быть, мысли, что мы возвращаемся в родные края, поддували воздух под нашими опавшими крыльями.
Измученные, полуживые, грязные, мы прибыли в Сороки лишь для того, чтоб присоединить к нам сорокских евреев, которых держали в синагогах и сараях и грабили с первого момента, но они не ходили и не страдали от голода, как мы. Колонна выросла втрое. Нас погнали в сторону Косоуц, на переправу в Ямполь.
Был конец июля. В Сороках к нам присоединилась мамина сестра тетя Туба с семьей: муж и трое детей: мой жених Бейрыш — 14 лет. Рахиль — 10 лет, Адочка — 4 годика. Подробности встречи не помню. В памяти осталось, что у них были продукты, и я «вдоволь» поела. У них были еще какие-то вещи, а мы были босые и голые почти. Родня вся держалась вместе, что, наверное, помогало еще удержаться на ногах, помогало на что-то надеяться. Запомнился момент: у меня гноились нарывчики на ногах, и я присела отдохнуть на обочине, папа присел рядом. Но колонна-то двигалась, к нам подошел солдат, папа подскочил, а я не хотела подняться, солдат был готов застрелить меня, папа меня подхватил на руки и унес. Мне очень жалко было папу, и я, ковыляя, пошла дальше.
Моя тетя была богатой, дядя Аврум работал механиком — редкая профессия по тем временам, зарабатывал хорошо. Тетя Туба — добрая душа, всем помогала, а уж нам само собою, разумеется. Богатство балует детей. Ее детям было очень тяжело. Мой «жених» и его сестрички очень капризничали по дороге на Ямполь. Они скоро поняли, что времена настали иные. Мне очень больно, но они все погибли в страшных условиях. Но это будет потом.
А пока мы прибыли в Ямполь, уже было начало августа. Здесь оказались евреи, оставшиеся на месте в своих домах, им угрожала смерть, но они спали на своих кроватях, ели за своим столом, были запасы пищи. Они по мере возможности помогали нам. Было бы кощунством их в чем-то обвинять: запасы продовольствия были не бесконечные, никто не мог сказать, что еще их ждет впереди. Да разве возможно накормить такое количество голодных людей?!
Но хочу отдать должное украинскому населению: они нам очень много помогали. Достаточно сказать, что в Ямполе мы не голодали. Получали не только еду, но и какую-то одежду. Честь и слава этим людям. В Ямполе мы разместились в разграбленных домах тех, кто эвакуировался. Разумеется, по восемь-десять семей в одном доме. Нет, нам не было тесно, у всех ничего не было за душой, кроме этой несчастной, ограбленной, униженной, оскорбленной души.
Мы оказались в двухэтажном доме на втором этаже. Рядом — тетя Туба с семьей, в другой комнате — дядя Мортыхэ с женой и двумя сыновьями: Мойша — 13 лет, Иосалы — 11 лет, еще одну комнату занимал дядя Янкел (папин двоюродный брат) с женой и двумя мальчиками — 5 лет и 3 годика, в остальных комнатах первого этажа жили тетя Майка с семьей и другие люди из Згурицы.
Окна нашей комнаты выходили на какую-то площадь, где стояли бочки с дегтем, посередине была яма от бомбы, полная грязной воды. Мне шел 12 год, не так уж мало. Я всегда была очень впечатлительной, и мои родители и сестры старались, чтоб я поменьше видела и поменьше слышала. Поэтому особых подробностей я не помню, но то, что я видела своими глазами, — то я помню, то врезалось в мою память так, что и сейчас во сне вижу те «картины» нашей тогдашней жизни.
Какое это было счастье — спать на полу, спать под крышей! Какое счастье умыться и попить воды из колодца! Еще хорошо, нет стражи над тобой.
С утра папа и другие мужчины вышли поискать работу за хлеб, деньги не нужны были. Выяснилось, что все соседние дома разграблены, но кое-что можно найти: немного какой-то крупы, немного муки. Выяснилось, что в Ямполе много румынских солдат, но еще больше немцев. Узнали также, что нужны рабочие руки, пусть за кусочек хлеба.
Моих сестер и еще двенадцать девушек взял на работу немец недалеко от того дома, где мы жили. Им только доверяли чистить овощи. Шеф-повар был старый интеллигентный немец, он девушкам выделил комнату для труда, а остальных немцев они даже не видели (вот удача!). Этот старик-немец, который нанял на работу еврейских девушек, был добрым человеком. Он очень жалел девушек, особенно мою Тубу, которая напоминала ему родную дочь, плакал, вспоминая свою семью: «Что еще ждет их?» Он спрашивал, почему мы оказались в таком положении. Он кормил девчат хорошо, и еще каждой давал домой котелок с супом (какой суп!) и хлеб. А когда узнал, что у Тубы сестренка дома, т.е. я, то передавал каждый день для меня шоколадку. Это был немец-человек, а не фашист.
Папа тоже работал: чистил квартиры — получал хлеб, крупу. Трудно понять, что означал для нас кусочек хлеба! В Ямполе мы пробыли неполную неделю. Утром все уходили на работу. Из-за меня мама сидела со мной дома. Мало, что я еще недоросль, но на вид (маленькая, щупленькая) мне никто больше 9 лет не давал. На работу меня никто не брал, и мамочка моя сидела со мной.
Я уже писала, что окна нашей комнаты выходили на площадь. В одно утро все ушли на работу, мамочка чем-то занималась (чинила одежду), стою у окна и выглядываю. Вдруг вижу 5 немцев на площади. Из-за угла нашего дома появился мужчина-еврей. Немцы его схватили и бросили в эту лужу с водой. Бедный еврей как-то поднялся из воды, отряхивается, а немцы хохочут, фотографируют. А я стою и наблюдаю. Появился с другой стороны еврей, немцы его сунули в бочку с дегтем. Бедный, как только не задохнулся, стал подниматься над бочкой, немцы хохочут и фотографируют. Я стояла с открытым ртом, ловила воздух, я плакала, видать, до мамы дошли какие-то звуки, она быстро забрала меня от окна и еле успокоила. Как мне больно и обидно!
И, невзирая на все издевательства, нам в Ямполе было неплохо: мы были сыты, мы имели крышу над головой, вся родня была рядом. Это было «райское» время, это нам пригодилось в дальнейшем, сам Бог помогал нам, чтоб не все погибли. Возможно, мои родители и сестры знали больше меня, но при мне не было никаких разговоров. Убивать не убивали никого.
Через пять дней нам объявили, что мы свободны, можем возвращаться домой в сгоревшее местечко, но домой, домой! Собрались старшие и решили, что мои старшие сестры идут в Сороки вместе с тетей Тубой и дядей Аврумом и детишками. А все остальные родичи и еще много людей — идем через Косоуцкий лес на Згурицу, а через небольшой промежуток времени придем (о езде речи не было!) в Сороки, чтоб жить всем вместе в это ужасное время.
На Згурицу нас собралось 200-300 человек. Переправились через Днестр, и сразу за Косоуцами свернули в лес. Папа мой руководил этим походом, он и был самый старший, наши старики и старушки остались лежать по дорогам Молдавии, малышей было мало. Этот переход был своеобразный поход босых ободранных людей, но мы были свободны, без стражи, мы имели что кушать и что пить. Но главное, радовались, что идем домой. Это был смелый переход!
Убить всех нас могли запросто, здесь были в основном женщины и дети, подростки, мужчин было очень мало, и все с 45–55–60 лет. В лесу было прохладно, нас не подгоняли, мы сами летели к свободе, домой, к сгоревшим домам, без вещей. Об опасности никто не думал. Все обзавелись палками, чтоб легче было идти, чтоб отгонять диких животных, чтоб отгонять комаров. В одном месте в лесу мы увидели громадного удава, забитого камнями и палками. В наших молдавских лесах не водятся удавы, откуда он взялся?! Это было плохим признаком, но старались об этом не думать. Мало ли чего, может, убежал из зоопарка!
Шли мы пару дней, ночевали спокойно. Вот уже Згурица. Нам навстречу бежит наш Цыган, наша собака. Как она прыгала вокруг нас, как радовалась, облизывала нас! Кроме собаки, встречать нас некому было. В местечке остались не сгоревшими с десяток домов в нашем районе. Все разместились в этих домах. По-прежнему по три-четыре семьи в один дом, места хватало, делить нечего было. Дверей не было, завесили двери тряпками, грабить нечего было. Потихоньку стали собирать из сгоревших домов какие-то кружки, кастрюли, ведра, какие-то тряпки — одежду.
Весть о том, что евреи вернулись в Згурицу, распространилась быстро, и крестьяне из окрестных сел и местные стали приносить нам еду и какие-то вещи. А сколько принесли фруктов и овощей! А хлеба и муки! Короче, крестьяне хотели, чтобы мы выжили. Вспоминаю роман Л. Фейхтвангера «Испанская баллада». В этой балладе такой момент (не вдаваясь в подробности): после того, как царица с ее помощниками устроила погром, основная цель которого была убить Ягуду и его дочь с младенцем (от короля), после грабежа и убийств евреев, те же люди пришли к синагоге-крепости и кричали: «Мойше, выходи, мы никого больше не будем убивать, мы хотим жить с вами в мире!». Мы были очень благодарны всем людям за помощь, за поддержку.
Наша «свобода» длилась всего пару дней. Что мы вернулись, дошло до нашего шеф де пост, и он явился к нам лично узнать, есть ли у нас какие-то документы на право возврата. У нас никаких документов не было, и он обещал узнать, что к чему. Через день он явился и объявил, что мы должны выехать в лагерь для евреев возле Рубленицы[28]. Отдадим должное этому человеку, он не в силах был нас спасти, но вот уже второй раз он организовал подводы, чтобы нас отвели в лагерь. Это была большущая помощь. Мы могли погрузить всю собранную пищу и свое «имущество», главное — нас никто по дороге не мог обидеть, были ямщики-охранники. Мы ему были очень благодарны, это был человеческий поступок, он был на службе и рисковал.
Так нас повезли на мертвую зону, бывшую ферму, скорее, бывший летний выгон для скота. Мы уже мучились полтора месяца, но то, что нас ожидало в этом лагере, было еще ужаснее, еще страшнее. Небольшая площадка с одним сараем без окон и дверей, вокруг поля с кукурузой, злаками. От этого места на расстоянии двух километров — село Рубленица на холме. До воды (колодца) надо было пройти два — два с половиной километра. В этот сарай, под крышу над головой, возможно, вместились человек 100, остальные заняли местечки на земле, кто под деревьями, кто подальше.
Ни к нам никто не мог (да кто хотел?) прийти, ни мы сами не имели право покинуть лагерь. Бедная мамочка плакала всю дорогу из Згурицы до лагеря, переживала, что отпустила от себя детей, и один Бог только знает, встретимся ли. Но оказалось, что всех, кто пошли на Сороки, встретили солдаты и сразу отвезли их в этот лагерь. Мы-то прибыли на неделю позже. Бедные наши родственники уже неделю голодали. Встреча была трогательной, со слезами на глазах, но с радостью тоже. Все волновались, что никогда не увидимся больше. Но, кроме этого, радости не было конца, что мы привезли продукты, они уже голодали. Спасибо нашему шеф де пост, что помог увезти продукты, которые нас спасли от смерти.
Мы оказались изолированными от всего мира, на клочке земли, под открытым небом, и только еда — кукуруза, злаки и трава. На этом и жили многие, но и это добро надо было воровать, ведь вокруг строгая стража. По воду ходили далеко — приблизительно два километра. Настоящий голод! Умирали от голода. Настоящий лагерь смерти.
Мы были самыми «богатыми» — у нас был запас продуктов, который берегли, как зеницу ока. Как мы экономили пищу! Это нам крупно повезло. До нашего приезда тетя с семьей и мои сестры уже здорово голодали. Ведь за воровство злаков и кукурузы расстреливали! Насколько могло этого всего хватить? Нас было где-то около 7000 человек. А время шло, уж наступил конец августа. Днем было жарко, ночью прохладно.[29]
Продукты стали выдавать — лишь бы заморить голод, чтоб хватило надолго, но нас было много, и продукты, привезенные из Згурицы, подходили к концу. Ходили голодные дети и иногда выхватывали из рук еду, но кто мог обидеться на них! Все поля вкруговую обчистили, солдатам не помогло избиение и стрельба: цена жизни упала настолько, что страшнее голода ничего не существовало. Делали попытки выбраться в село (вот оно!), собрать крохи с мусора или какую милостыню, но они заканчивались трагически.
Помню, ночью был ливень, мы стоим вплотную, как селедки в бочке, но все промокли до ниточки. Ждали утра, чтоб развести костер и обсушиться хоть чуть-чуть. Ночью стреляли во время дождя, нас это не удивило, к этому мы уже привыкли. На рассвете привезли в лагерь три трупа: двух мальчишек лет по 8 и женщину. Их выбросили из грузовика буквально возле нашей лужайки (от меня это скрыть не смогли родители!). Кровь с дождевой водой текла по нашим ногам. Мальчишки были убиты разрывными пулями в голову насквозь, женщина имела рану в бедре, правой рукой держалась за сердце, так застыла. Видать, умерла от разрыва сердца. Эта картина так врезалась в мою память, что я их вижу и сейчас. У меня было достаточно времени наблюдать их. Похоронили их только днем, когда уже солнце светило. Попытались ночью в дождь добраться до села! Я впервые стояла так близко к мертвым, мне так было их жалко.
Умирали от голода и грязи: умыться по-человечески или помыть голову могли только мечтать. Мало того, что до колодца было далеко, но и посуды, чтоб принести воду, были ведерки (в лучшем случае чайники, кастрюли). Ходить по воду было далеко и небезопасно. Был случай как раз после того, как нас привезли в лагерь: рано утром муж с женой решили пойти по воду, чтоб, возможно, не ходить днем по солнцу. Что их погнало так рано, никто не знает. Только позже наши люди из лагеря нашли их мертвыми: их закололи вилами. С тех пор по воду ходили по 10-20 человек и никогда не ходили позже заката солнца. Нам всем отрезали волосы, поливали кружкой воду и мыли голову золой, о мыле и не мечтали даже. А тело мыть не приходилось, только ливни мыли наши тела и одежду. От нечистоты развелись вши. Это был бич, как и голод. Бороться с этой напастью невозможно было: не было воды, не было мыла, не было сменной одежды. Мало, что голодали, нас съедали паразиты. Старались, но толку было мало. По очереди каждый день умывали одного человека, поливая водой из чайника.
Голод добрался и до нас. Все продукты уже съели, а вокруг даже травы не осталось. Но нам было суждено выжить. И Бог помог. В самое тяжелое время какая-то знакомая крестьянка Тубы чудом пришла в лагерь и принесла торбу кукурузной муки, несколько помидоров, луковицу, несколько яблок. Не знаю, какой риск был для той молодой крестьянки, но нас она спасла от смерти. Честь и слава таким людям! К сожалению, не помню других случаев. Вот так прошли долгие три недели для нас и целый месяц для остальных.
В одно прекрасное утро нам объявили, что нас переводят в другой лагерь: Вертюжаны (еврейское местечко)[30]. Куда угодно, только подальше от этих мест. Но что нас ожидало там, было еще хлеще. И опять в поход под стражей. Было начало осени, уже убирали урожай, но еще не всю перекопали землю. Мы ожили. По дороге были фруктовые деревья, на полях были остатки невыкопанной картошки, где-то валялся подсолнух, где-то были высыпаны початки кукурузы недоспевшие, и т.д. Голод ушел, нам было что есть. Кроме того, во время перехода нас останавливали возле водоемов, и мы могли умываться. Конечно, двигались медленно, после такого голода люди еле передвигались. По-прежнему падали и больше не поднимались. Осталось громадное кладбище в Рубленицком лагере. Но и теперь вдоль дороги люди падали и не поднимались больше. Никто не мог им помочь. Малюток уже не было, очень старых уже тоже не было. Остались только те, которые были еще способны двигаться. Колонна была приличной, хотя, конечно, поредели ряды.
И через три или четыре дня нас пригнали в Вертюжаны — очередной лагерь смерти, пожалуй, еще хуже Рубленицы. В Вертюжанах не было ни одной живой души: куда делись люди, узнаем позже, а куда делись кошки, собаки и крысы? Некогда было думать об этом. Дома каким-то образом почти все уцелели. В эти дома мы вместились все, по семье в каждой комнате. А вокруг провода и на каждом углу вышки для охраны, солдаты вооруженные. За попытку приблизиться к ограждению — расстрел. Здесь мы были полностью изолированы от внешнего мира. Ближайшие села находились на расстоянии десяти — пятнадцати километров. Помощи ждать неоткуда было. Еще хуже, что даже травы не было в пределах местечка (вернее, нашего лагеря), а поля и леса были недосягаемы.[31] Вероятно, это была последняя ступень опыта над нами!
Те крохи, что собрали по дороге, ушли за пару дней, а дальше? Да, у нас была вода, хорошая вода, и крыша над головой, и больше ничего. Надежда, надежда — она умирает последней! Почему нас не расстреляли сразу? Никто не ответит на этот вопрос. Эти наши мучения, унижения, оскорбления! У каждого своя судьба!
А пока невыносимый голод. Внутри лагеря обшарили, обыскали все дома в поисках чего-нибудь, но это был напрасный труд. Но вот стали вывозить мужчин на работу вне лагеря (ничего не платили, даже не кормили). Разбирали дома на стройматериал. Счастье улыбнулось: нашли макух[32], которого и крысы уже не ели! По кусочку макуха на душу семьи — готовый завтрак и ужин, запивали горячей водой. Другой раз папа нашел в каком-то доме довольно горькую гречневую муку! Это вообще была находка: кастрюля с водой и один стакан муки, получалась клейкая масса (жондра)[33], и вот на обед по стакану жондры! Еще экономили, чтоб хватило на дольше. Нам завидовали! Мама всегда просила: «Ешьте только в комнате, мы не в силах всех накормить, а люди голодают!». Удивительно ли, что у нас у всех больные кишечники. Макух утром и вечером, на обед жондра. Завидная пища!
Помню, вышла погулять и дошла почти до вышки. На вышке стоят два солдата и кушают то ли позднюю вишню, то ли сливы, а косточки бросают вниз на территорию лагеря. А здесь дети-подростки дерутся за каждую косточку (вернее, за ядро). Я понаблюдала эту картину где-то 2 минуты, убежала домой со слезами, меня еле успокоили. До сих пор меня жжет обида за этих детей! Возможно, у этих детей уже не было никого из родных!
Других происшествий я не помню. Возможно, старшие знали что-то. Еще помню, у нас в доме в Згурице жила молодая пара. В нашем доме у них родилась девочка, и через пару лет — мальчик. В Вертюжанах мальчика уже не было. Но эта девочка всегда, как только мы садились обедать, стучала к нам в дверь и садилась за стол обедать с нами (она же родилась здесь, и мы ее любили). Эта семья оказалась в одном доме с нами, и по старой привычке эта девочка (одни косточки, такая худая) приходила к нам «кушать», она получала немного жондры.
Помню опухших от голода людей, и как они падают на улице, страшное зрелище.
Нашими спасителями были папа и Туба: обыскивали все уголочки местечка, чтоб найти хоть что-то!
Трудно поверить, но так прошел почти весь сентябрь. В конце сентября нам объявили, что мы идем в Косоуцкий лес. Мы уже не знали, радоваться или плакать, что еще нас ждет впереди?! В Вертюжанах мы оставили большое кладбище. Хуже уже некуда. Выгоняли из Вертюжан через какие-то ворота, тут стоял стол, и два солдата направляли: ты — налево, а ты — направо и т.д. Случилось, что нашу мамочку толкнули налево, а мы все были направо. Мы подняли крик: «Отдайте нам нашу маму, иль возьмите нас всех налево». Помню, этот солдат с кислой миной сказал: «перестаньте кричать, вот вам ваша мама», — толкнул маму к нам, а другого человека налево. Кто знает, где лучше? Даже солдаты этого не знали. С самого начала катастрофы, когда нас гоняли на расстрел, мама говорила: «Держитесь все вместе. Умрем вместе или выживем вместе».
Направо оказались мы и семья тети Тубы. Налево попал дядя Мордехай с семьей (четыре человека), дядя Янкел с семьей (четыре человека), дядя Мойше и еще много людей из Сорок, Згурицы и других местечек севера Молдавии. Мы прощались, махали руками, надеялись, верили, что еще увидимся! Забегая вперед, скажу, что всех, кого погнали налево в сторону Могилева-Подольского, расстреляли, об этом мы узнали только после войны. До расстрела над ними поиздевались здорово! Да будет им земля пухом. За что? Ведь 80% там были женщины и дети. В живых осталось трое мужчин. Как это им удалось, не рассказывали. Папа лично знал одного из них, он был из Згурицы, но узнать подробности от него не удалось. Все тот же вопрос: почему, за что?
Нас всех, «правосторонних», погнали в Косоуцкий лес[34]. По дороге мы чуть-чуть ожили: мы брали все, что было еще на полях, в садах, на огородах. В дома никто не заходил. Стража махнула на нас рукой: никакие угрозы, никакие наказания не могли остановить людей от поисков пищи. Вода тоже была. Нас довели до такого состояния, что смерть была бы спасением, только не хватило силы воли на самоубийство! Наш вшивый бич следовал за нами. В Вартюжанах было легче бороться с ними: жили под крышей, имели воду и золу, но не было одежды на смену, чтоб старую сжечь. Так нас паразиты ели, а мы голодали.
Прибыли в лес вечером. Остановились ночевать, как всегда, расположились на земле, один к другому, ночи стали холодными, а укрыться в отдельности не хватало тряпок. Чуть свет стали поднимать нас и выгонять мужчин возраста от 13 до 60 лет на работу в Сороки. Среди них был и дядя Аврум (муж тети Тубы) и мой папа. Выгоняли их солдаты-румыны.
Накануне в дороге папа натер себе ногу до крови, и ночью стало нарывать. Эту ногу завязали тряпкой, а она развязалась, и папа попросил солдата дать ему перевязать ногу. Я пошла провожать папу и стояла рядом. Пока солдат подгонял других, папа перевязал ногу и укрылся в неубранной кукурузе. Он скрывался в кукурузе двое суток, пока нас не погнали дальше. Угнали на работу в Сороки больше 200 человек, назад они не вернулись. Так моя тетя Туба осталась одна с тремя детьми, Ее судьба сложилась очень трагически. Через два дня нас, одних женщин и детей, погнали на переправу в Ямполь. Опять Ямполь!
Опять, забегая вперед, расскажу судьбу наших мужчин. Они действительно работали в Сороках три месяца. Потом их вывезли на то самое место, откуда их забрали, и на этой поляне Косоуцкого леса их расстреляли. На этом самом месте стоит памятник, это как раз у въезда на Новые Сороки. На памятнике записано, что там «мирные советские граждане — жертвы фашизма», — а там только те евреи, которых забрали из наших рядов!
Поскольку я уже забежала вперед, расскажу про судьбу евреев из других местечек Молдавии, куда вошли и все евреи из Вертюжан. Где-то в конце семидесятых или в начале восьмидесятых годов прошлого столетия в Сорокскую синагогу (к этому времени синагогу уже восстановили) прибежали крестьяне из Косоуц и сообщили, что на опушке леса валяются человеческие кости, в основном детские косточки. Мальчишки из села пасли там скот и наткнулись на кости. Синагога организовала выезд в лес для сбора человеческих костей и перевоза их на еврейское кладбище. Потихоньку выплыла на поверхность история этих костей. Оказалось, что до того, как нас пригнали в Косоуцкий лес, буквально за неделю, а может, и того меньше, сюда пригнали евреев из других мест, и тут их расстреляли. Это были женщины и дети! Дети! Приблизительно в могилах (в двух), посчитали по головам, было 6000 и 7000 человек[35]. Засыпали ямы небрежно. Поэтому волки и собаки имели доступ к трупам и растащили кости по лесу.
Тех свидетелей этих расстрелов уже нет в живых. Подробности никто уже не расскажет. Но все эти люди страдали и рассказали близким своим об этой трагедии. И через столько лет мы узнали об этой катастрофе. Спасибо большое всем сорочанам, кто собирал кости наших безвинных сестер и братьев (особенно малышей), и кости захоронили на кладбище в правом углу недалеко от входа и, собрав деньги, поставили красивый памятник.
Почему эта участь нас миновала? Ведь нас тоже пригнали на расстрел (в этом нет сомнений), но забрали только больше 200 жертв, а остальных оставили мучиться дальше. Кто ответит на мои вопросы? Кто руководил этой «мясорубкой»? Ответа нет и никогда не будет.
Заканчивая это отступление, я хочу еще сказать, что обвинять свидетелей этих убийств никак нельзя. Их пригнали из села на помощь карателям. Молчали они долго, что тоже понятно: боялись советской власти, их запросто бы судили и, возможно, даже расстреляли бы как врагов народа, как помощников фашистов, вовсе не потому, что убили евреев!
Итак, нас отправили на Украину. Уже было начало октября. Стража была уменьшена пополам, не так строго нас сторожили. Появилась возможность где-то чем-то помочь хозяину и получить хлеб, картошку и т.д. То есть с продуктами было гораздо легче, голод отступил. Вообще на Украине люди относились к нам очень сочувственно, помогали, чем только могли. Евреи на Украине остались на местах в своих домах, их не грабили.
На ночь нас устраивали в свинарниках или конюшнях. К нашим паразитам добавились паразиты бывших жильцов. Условия были кошмарными, варили на улице на двух камнях (вернее, кирпичах), умываться невозможно было, ведь свиные «кабины» открытые! Грязь невозможная, бороться с ней невозможно было. Нас не убивали, не расстреливали, мы сами умирали от грязи, холода и эпидемий. Наши евреи стали где-то пристраиваться, в городах и селах по дороге. Украинцы нас не выдавали, они помогали чем могли, честь и слава этим людям. Они и одели нас как могли. Шел день за днем с теми же проблемами, мы еще были живыми, и нам было гораздо лучше, чем в лагерях, но зима приближалась, и надо было думать о зимовке и о работе, не могли же чужие люди кормить нас и поить всё время! Злоупотреблять их щедростью было бы подлостью.
Мы прибыли в Крыжополь. Нас поместили в курятнике (еще новые паразиты!). Как-то устроились на земле, ночи уже стали холодными. Я остановилась на Крыжополе не потому, что здесь было лучше, нет, просто это был большой город-станция, и еще потому, что здесь тетя Туба с детьми решили остаться ждать дядю. Как мы согласились оставить ее одну с детьми? Но наша семья решила пройти еще какое-то расстояние в надежде найти более приличное место. О лучшем месте только мечтали. Могил как таковых не существовало, лежали трупы безымянные на дорогах, в конюшнях, курятниках, свинарниках. Хоронить не успевали. Правда, после нас местные жители хоронили мертвых (возможно!).
Началась эпидемия тифа, а что еще можно было ожидать от этой нечистоты?!
Так мы дотянули до Ободовки — бывший совхоз[36] в десяти — пятнадцати километрах от Бершади. Опять мы в свинарнике, у каждой семьи — своя «каюта», опять чистим грязь, опять нас едят паразиты и свои и чужие! Была середина октября, еще была работа у хозяев села: убрать поля, перекапывать, чистить свои курятники и стойла лошадей, кое-что ремонтировать и т.д.
Папа и сестры уходили на работу, и к концу дня приносили хлеб, картошку, горох, фрукты и т.д., в отдельные дни приносили куски мяса отваренного и прочие «деликатесы». Все ели экономно, у нас был горький опыт. Но подступала зима, и ни работы, ни жилья у нас не было. Рядом в клетках лежали умирающие люди и стонали всю ночь и весь день. Положение было ужасное. Становилось холодно, по-прежнему варили пищу в кастрюле на кирпичах на улице, а в дождь что делать? Мы держали над кастрюлей защиту от дождя, а сами промокали до ниточки. Вообще, вокруг огня собирались все, чтобы погреться, чтоб нюхать пищу и насыщаться запахом! Но зимовать здесь — равносильно самоубийству.
Хоронили мертвых тут же во дворе. Мои дорогие евреи тоже ведь разные. Папа пытался хоть что-то делать по правилам, но напрасный труд! Ему оставалось только делать мулыс[37], сказать кодыш[38] (другой раз не знали даже имени умершего). Папа мой, честнейший человек, который ставил Бога и нашу религию выше всего, не участвовал в грабежах, которые устраивали другие евреи, которые хоронили! Но случилось, что умерла наша бывшая соседка, и мамочка наша решила проводить ее в последний путь. Помню, маму привели в нашу каюту в истерике. Чтó я узнала потом: что при ней стали вырывать золотые коронки у мертвой, и моя мама не только обозвала их фашистами, но ругала их как умела (ругаться тоже надо уметь). Ведь папа не рассказывал, как поступали наши евреи-похоронщики. Помню, когда мама перестала рыдать — она у нас была волевая, смелая женщина, — она заявила: «Я здесь не останусь больше ни дня. Лучше пусть нас всех расстреляют, чем жить здесь, где все равно нас ждет смерть в муках. Мы уходим в Бершадь».[39]
Семейный совет решил, что сегодня же ночью папа и Туба идут в Бершадь искать квартиру. Следующей ночью они ушли в Бершадь. Нас в этом совхозе почти не охраняли. Опасность подстерегала в дороге: если обнаружат — расстреляют. Возможно, страх был сильнее, чем опасность! Кто знает. Мы столько пережили за эти 4 месяца, мы столько повидали, мы столько выстрадали, что очень были напуганы. Наконец, следующей ночью папа и Туба вернулись с хорошими вестями. Бершадь — еврейский город, огородили от основных дорог и превратили в гетто для евреев — местные евреи как жили, так и продолжали жить в своих домах, на своих кроватях, с запасами пищи и одежды. Их даже не грабили. Вот так по всей Украине до Буга. Мы, молдавские евреи, прошли через ад на земле!
Папа и Туба даже заняли какой-то дом евреев, которые эвакуировались. Этот дом был разграблен, с разбитыми окнами, без дверей, но для нас это все было как прекрасный «палац»[40]! Они поговорили с соседями-евреями, они их накормили и нам кое-что передали. Таким образом, мы собирались в путь еще раз на следующую ночь. Папа всегда молился, молитвы он знал наизусть, а на этот раз он просил Бога провести его семью благополучно в гетто! Было страшно. Мы вышли по одному из свинарника, соблюдали абсолютную тишину, на улице никого, слава Богу. В шеренге папа, мама, Пая, Молка, я и Туба. Прошагали эти 15 км быстро и удачно; там, где могли быть солдаты, обходили, и чуть свет мы входили в гетто.
Бершадское гетто
Бершадское гетто, где мы прожили почти 3 года! Главное утешение: мы были среди евреев, с крышей над головой. Первый день ушел на устройство одной из трех комнат, чтоб можно было зимовать — был конец октября. Ночи уже были с заморозками. Папа и старшие сестры притащили дверь, доски, которыми заколотили одно окно без стекол, таскали кирпичи все мы, чтоб сделать лежанку и плиту для обогрева и для приготовления пищи. Папа с мамой умудрились сделать ложе-топчан: возле одной стенки выложены кирпичи, возле противоположной стенки — кирпичи, и посередине кирпичи. Старались, чтобы эти кирпичные укладки были одинаковой высоты, наверх выложили доски. Не знаю, каким образом, папа и девочки принесли мешки с соломой, которую высыпали на топчан, сверху какие-то тряпки — кровать готова. Мы радовались этой находке, ведь до этих пор спали на земле или на полу в одном лагере Вертюжаны. А сейчас у нас была «кровать» — нара, спали в ряду: папа, мама, Туба, Пая, Молка, я. Топчан занял больше половины комнаты, но на нем спали с вытянутыми ногами. Оставшееся время дня первого и почти целый второй день строили плиту!
Папа оказался отличным строителем! Он соорудил плиту с дымоходом и крупный кусок железа наверху — это было нашим спасением в ту страшно холодную зиму 1941–1942. Нам очень много помогли евреи-соседи, правда, папа колол им дрова на зиму, мои сестры убирали у них, но все равно — большое им спасибо, помогали первые дни сколько могли: они сами были в неволе.
Мы были среди первых евреев, появившихся в Бершади. Потом хлынул поток людей, никакая стража не помогала остановить этот поток людей. Всем помогать не в силах были местные жители, но помогали где куском хлеба, где старой тряпкой.
Таким образом, у нас была комната и «кровать», и плита, и один стул, и оставался проход между кроватью и плитой, и небольшое место возле дверей в смежные комнаты. Вскоре у нас уже в соседней комнате жила семья Лейдершнайдер из Згурицы: мать с тремя детьми: два парня Иосе (15) и Хаем (4), и сестра Мася (18), и отец матери, уже престарелый мужчина. Передняя комната оставалась незанятой пока.
В нашем переулке недалеко от нашего дома был кран с хорошей водой. Какое счастье, мы могли «купаться», мыть головы, умываться ежедневно утром — роскошь. Появилась расческа для чистки паразитов. Воевали с ними всеми силами.
Там, где люди, — там и «базар». На площади для парадов люди выставляли свои «имущества», всё что угодно взамен пищи. Но как быть таким бедолагам, как молдавские евреи? Они просто выходили на «базар»: авось кого-то встретят, авось какие новости услышат, авось кто-то подаст милостыню.
Я упомянула еще раньше об эпидемии тифа, но эпидемия, которая началась в гетто, была страшным судом! Что было ожидать от этой грязи и паразитов? Тиф сыпной, тиф брюшной косили людей без пощады. Речи о лечении не могло быть, только борьба организма, лекарства — горячая вода! В это время мы не голодали, папа и сестры зарабатывали еду.
Как-то на базаре мой папа встретил случайно свою двоюродную сестру из Ямполя, которую он не видел с 1918, когда закрыли границу между Бессарабией и Россией. Она оказалась в Бершади, потому что муж у нее был летчиком, и она боялась остаться в Ямполе. С ней были его сын лет 14 и их общий сынок 3 лет. Папа привел ее к нам, прекрасная женщина лет 40 (во цвете лет). Мы все были рады — родная душа. Но увы, эта радость была кратковременной: первой жертвой тифа в нашем доме стал дед. Я, которая была воспитана в духе иудаизма, где мертвеца особо чтут, каждое прикосновение к нему сопровождается просьбой о прощении, вдруг увидела такую сцену: к дому подъехала телега, типа в которых везут солому или траву для скота, полная мертвецов, и этого деда из нашего дома двое молодцов схватили за руки и ноги, с размаху забросили наверх! У меня волосы поднялись на голове! Но здравый смысл мне подсказал, что это лучше, чем смерть людей по дорогам!
Вслед за этим заболела Ельца, двоюродная сестра папы. И остались эти мальчики. Папа с мамой решили забрать их к нам (в эту тесноту и бедность!) Помню, принесли маленького и какой-то рюкзак. Маленького положили на наш топчан рядом со мною. Через пару дней ночью этот парень стащил рюкзак с вещами и, не сказав ни звука, исчез.
Не прошло и недели, как маленький, забыла его имя, заболел и, промучившись пару дней, тоже умер. Страшная ночь его перед смертью: он плакал, и стонал, и звал маму! Мы все не спали, но чем могли мы помочь: никаких лекарств, и кушать он не мог, только пил. Мне его было очень жалко! Я его оплакивала. Все потом говорили: лучше бы не встретили Ельцу, добавочные страдания. Завернули его в тряпки, папа выполнил какой-то обряд, и он, несчастный ребенок, попал на ту же телегу. Мертвецов было так много, что и хоронить не успевали. На кладбище, еврейском кладбище «выросли» горы трупов.
Заболели соседи в средней комнате, вскоре мать их Хона умерла, а трое детей-сирот остались жить. Как было им помочь — горячая вода вместо лекарства и доброе слово!
И, конечно, настал наш черед заболеть. Лежали больными папа, Туба, Пая, Молка и я. Одна мама, которая никогда не болела тифом, осталась на ногах: сам Господь Бог оставил ее, чтоб она за нами ухаживала. Все мы болели сыпным тифом, только у Молки был брюшной тиф, у папы был повторный тиф[41], и у него отнялись ноги. Моя мамулечка должна была достать дрова для печки, всех кое-чем кормить, лечить добрыми словами — других средств не было. Горячую воду мы имели, опять-таки, спасибо маме.
Первым стал поправляться папа, но ноги отказывались ходить, потом стали выздоравливать старшие сестры и я, только Маняша наша таяла не по дням, а по часам. Бедная наша мамуля, как она страдала. Она, которая похоронила трех детей от дизентерии, наблюдала этот понос у Маняши, и ужас и страх были на ее лице.
Помню, каким-то чудом у мамы сохранился приличный жакет на цигейке, и она решила его вынести на базар, чтоб купить яблочко, авось поможет. Уже стояли приличные морозы, шел декабрь 1941, и мамуля решила оставить этот жакет в передней комнате, там еще никто не жил, чтоб паразиты замерзли и утром вынести его на базар. Увы, к утру жакет исчез. Плакали мы все. Нет, нам не было жалко жакета, было жалко, что не будет яблока для спасения Маняши.
Уже не помню, что она вынесла на базар, каким образом ей удалось купить яблочко для дитя! Трудно поверить, но яблочко это спасло Молкыню. Как-то прекратился понос, и она стала поправляться! И опять, только Бог нам помог, мы все выжили! Папу учили ходить, и он встал на ноги. Никто не думал о последствиях, чуть стало легче, и уже, завязав ноги тряпками, укутавшись в тряпках, бегали искали работу, чтоб не умереть с голода!
Я проспала уход всех, а когда проснулась, мне показалось, что печка вот-вот потухнет, а что подбрасывать в печку (досточки, куски угля) — не видно было. Я поднялась и быстро побежала искать материал для печки, а побежала босиком, а на улице уже лежал снег и дул холодный ветер! Я принесла какие-то щепки и поддержала огонь в печке, но организм мой был уже слабый от всей этой жизни и от тифа. Конечно, я простыла, по всему телу пошли фурункулы, как бороться с этим, когда и чистых тряпок не было вдоволь! Я здорово пострадала. Но самое страшное — нарывы на ногах, которые мучили меня до 1944, когда мы вернулись в Сороки.
В летнее время было сносно, но зимой я становилась почти неподвижной. Мама прикладывала листья капусты, лук печеный и другие народные средства, но один нарыв затягивался — другой появлялся, к тому же тряпки приклеивались, приходилось их отрывать со слезами на глазах (я не плакала и не кричала, боялась волновать маму!)
Во второй половине декабря, а может и раньше, в Бершадь прибыла большая партия евреев из Буковины[42]. Им повезло в одном — их привезли на узкоколейке вагонами, им разрешили взять с собой все, что можно унести, и деньги, и драгоценности! Их не грабили, их не убивали, над ними не издевались, их просто перевели в гетто. Богатые люди, но до предела не приспособленные для той жизни, которая их ожидала. Это было их несчастье. Они умирали пачками и от тифа, и от голода! Имея большие богатства, не могли бороться за себя и близких. Наблюдать эту беспомощность — тоже трагедия. За любую помощь, которую им оказывали, они щедро платили. Но кто мог спасать их, тиф не щадил никого. Падали на улицах.
Еще спасибо, что подбирали мертвых и увозили на кладбище! Я точно не знаю, кто этим ведал, но для тифа не существовала колючая проволока вокруг гетто: зараза охватила и жителей Бершади, неевреев и солдат. За одну зиму 1941 от эпидемии тифа в нашем гетто умерли около 16.000 евреев, по неточным подсчетам. Сильные морозы этой зимы остановили эпидемию где-то уже к февралю 1942. Это единственное хорошее от той страшной зимы.
А как мы? Рядом с нашим переулком была Русская улица. На этой широкой улице был крупный пищевой магазин. Отсюда получали продукты военные: румыны, и немцы, и итальянцы (все, кроме евреев). В этом магазине заведующей (в наше время) была украинка-красавица, да еще с доброй, отзывчивой человеческой душой. Она спасла жизнь многим нашим евреям, беря их на работу в магазин (конечно, черная работа в подвалах). В основном убирали и перебирали овощи, изредка фрукты. Думаю, что никто из властей об этом не знал. Она платила всем овощами, изредка куском хлеба, изредка вермишелью, чуть соли, совсем редко по чуточку масла. Самое главное, что, она «не хотела видеть», что кто выносил в карманах. Вот у нее-то работали сестры, и папа, и еще много людей. Все они приносили домой картошку, бурячок, морковочку, луковичку, чесночок и т.д. Вот это нас и спасло в зимне-весенние месяцы 1941–1942. А когда потеплело, я могла прибежать к окошку, где работали мои сестры и папа, и они кое-что мне выдавали в окно. Она все видела, все знала, но молчала. Она спасала людей от смерти. Тем более что тогда же в декабре отменили всякие деньги, а ввели марки (немецкие деньги), а где их взять?![43]
Я и Молкалы сидели на топчане всю зиму, так что к весне выпрямить ноги не могли! Мы распускали какие-то старые мешки и вязали юбки, кофточки, типа «туфель» для всех. А мама была хозяйкой. Часто у нас под окном раздавался траурный голосок ребенка: «Подайте что-нибудь, ради Бога». Что могли мы им подать?!
В декабре после тифа мы сами опять голодали, собирали кожуру от картошки у соседей и пекли ее на плите — прекрасная пища. Или с другой стороны подальше от нашего переулка была калитка, через которую можно было выбраться на главную трассу Бершади. Выйти не разрешалось на эту улицу. По ней возили сахарную свеклу на сахарный завод. На ходу с машины падали свеклы, мы, рискуя жизнью, выскакивали в калитку, ловили с улицы буряк — и бегом в гетто. Эти сладкие буряки, спеченные на плите, были лакомством Они нам служили вместо сахара и печенья к кипяченой воде. Мы, младшие, это проделывали первое время после перехода в гетто, а в декабре мы уже были «привязаны» к топчану.
Помню случай. Папа, встав на ноги после тифа, решил хоть собрать сладких бурячков к воде, чтоб заморить голод. У калитки всегда дежурили полицейские из местного населения, среди них был один очень злой человек. К несчастью, он дежурил в этот день (мы боялись его очень). Когда папа выбежал и схватил два буряка, этот полицейский появился. Те, кто были помоложе и здоровее, убежали, а папа после тифа и осложнения на ноги не успел скрыться за калиткой. Боже милосердный, как он его избил, как избил всего! Мама еле притащила его домой, он был весь в синяках и плакал от обиды и унижения. Мама прикладывала холодные компрессы и еле успокоила его. Вопрос в том, откуда берутся такие злые люди?! Что ему эти мерзлые бурячки, которые пропадали на улице!
В это тяжело время мы помочь не могли тем, кто просил милостыню! От этого тоже страдали. Но когда уже начали работать в подвале магазина, тогда уже могли подать какой-то овощ нуждающимся. Ох! Мы отлично понимали нищих, мы им очень сочувствовали, мы не раз голодали, будучи в лагерях в Молдавии. Но, слава тебе Господи, мы никогда не просили милостыню.
Мы как-то выжили, благодаря находчивости и смелости папы и Тубы! Все, кроме меня и мамы, работали на любых работах за кусочек хлеба: копали, убирали, чистили конюшни, туалеты, убирали урожай, перекапывали огороды и т.д. Не брезговали никакой честной работой, лишь бы выжить!
Я узнала от моей старшей сестры Молки, что, еще будучи в Згурице, уже после пожара, папа и Туба поднялись к нашему дому, но не новому, остаток старого дома, где стояла лошадь. Когда моя Туба приехала из Сорок, она привезла с собой небольшой чемоданчик с материалами, ситчик любых цветов. Перед катастрофой ловили все, что «выбрасывали» на продажу. Этот чемоданчик положили в старый дом в печку (наверное, там же и лежал мамин жакет-шубка). Этот чемоданчик так и остался в печке. Они сильно рисковали, но притащили чемоданчик вниз к реке. От меня, видать, это скрывали! Но этот ситчик и был палочкой-выручалочкой в самые тяжелые моменты нашей жизни! У каждого за спиной был рюкзачок, что там лежало, знали только старшие члены семьи.
Возвращаюсь к началу 1942.
Положение наше было плачевным! Мы опять голодали. Декабрь, январь и больше половины февраля тянулись бесконечно долго и мучительно. Где-то трудились и зарабатывали хоть что-то съедобное. И, наконец, начали работать в подвале магазина. Это было нашим спасением. У нас появились овощи, соль, вермишель, морковочка — целое богатство.
Голод отступил. С весной появились надежды. Странно, невероятно, но мы знали все новости с фронта и тыла.
Весной, когда снег начал таять, солнышко стало греть, возникла опасность новой эпидемии: ведь на кладбище лежали горами трупы, их надо было немедленно захоронить. Эпидемии боялись не только мы, но все население вокруг нас, и полицаи, и солдаты. Власти организованно стали выводить мужчин на кладбище, чтоб похоронить трупы, которые несли угрозу новой эпидемии. В этой процедуре участвовал и мой папа. Страшное зрелище: трупам не дали оттаять, а ломами и лопатами рубили человеческие тела и бросали в ямы! Части тел попадали в разные могилы. Другого выхода не было. Папа мог только говорить кадыш и делать мулыс во множественном числе! «Работа» эта была закончена уже к концу марта. И слава Богу — другой эпидемии не было.
Весна, солнышко уже греет, а мы, я и Молка, с трудом становимся на ноги после зимнего сидения целыми днями! Мама спасла. Но самое главное — мы все живы! Спасибо, Господи, ты совершил чудо, мы все живы. Папа составил еврейский календарь и русский тоже. Мы знали, когда наши праздники. Мы праздновали Пурим, Пейсых, Швис[44]. Конечно, блюда были не те, но это неважно, было что кушать, и слава Богу! У единственного окна мы пели песни, папа молился (голос у него был прекрасный). Все наши соседи приходили к нашему окну слушать молитвы и наши песни. На Пейсых справляли Сейдыр[45], вспоминали как страдали наши предки и как мы страдали до сих пор, и что еще впереди?! Ели картошку и мамалыгу, что не противоречит нашим законам. Папа мой помнил все молитвы наизусть! Он ведь был хозын![46] Папа старался развлекать нас, чтоб хоть на минуту мы забыли заботы и тревоги. Рассказывал рассказы, притчи, временами пел. Все соседи приходили слушать Ишие Гринзайда и дочерей! Они то смеялись, то плакали! В наших условиях — это было и смелость, и вера, и надежда, и развлечение! Это происходило очень редко.
Весна! Просыпалась природа и оживали и мы — дети. Нашла я себе подружку Рывалы, они жили в Згурице на одной улице с нами (это сестра того парня, которому выпустили кишки в 1-ый день погрома!) Мы выходили только на ближайшие улицы погулять. Она была года на два моложе меня. Нас всегда сопровождал ее брат, двойня убитого. Конечно, гуляли в основном по субботам!
Была образована так называемая еврейская община[47]. Здание общины находилось недалеко от нашего переулка. Во главе был поставлен еврей из Буковины, доктор Шренцель (не знаю, доктором каких наук он был!). Представительный, довольно интересный человек, умница. Он подобрал себе людей из гетто для службы (все в согласии с властями румын), что-то вроде местной власти в гетто. Все приказы комендатуры доходили к нам через общину.
Евреи Румынии собрали большие деньги в помощь нам, страдающим и голодающим в гетто. К этой помощи присоединились еще какие-то благотворительные организации. В Румынии евреев не убивали и не грабили. Не могу сказать, какая часть помощи дошла до нас, но община стала выдавать ежедневно всем по 200 г хлеба! Это уже было что-то. Если убирали здание, подметали площадь перед общиной и т.д., выдавалось еще по 200 г хлеба! Вот тут и я могла поработать!
Через общину, по приказу властей, выводили людей на работу вне гетто. Работа основная — разбор домов на стройматериалы. Эти материалы вывозили по узкоколейке: может, в Румынию, может, в Германию! За день работы платили мисочкой гороха или чечевицы, в лучшем случае давали ¼ часть хлеба! На эту работу выводили принудительно, по приказу сверху, через общину. Конечно, выгодно было работать в подвале, но если община назначила работать на власти, все подчинялись без слов. Румыны требовали людей из гетто ежедневно. Мы работали на них почти даром, они за стройматериалы выручали большие деньги. Мы были согласны на все условия, только чтоб нас не убивали! Все в гетто ожили. Базар становился настоящим базаром — иной раз на наши базары приходили крестьяне из соседних сел. Приносили продукты на продажу! Папа иной раз покупал яблоки оптом у хозяина, а потом я их продавала на базаре поштучно, вот и какой-то навар! Таким же образом могли продавать фрукты и овощи поштучно. Короче, стало возможно не голодать, шла простая торговля.
Чтобы было понятно, как могли крестьяне попасть к нам на базар, нужно знать, что гетто состояло из двух частей, разделяла гетто Русская улица, которая не принадлежала гетто. Мы жили в левой стороне, если входить на Русскую улицу с основной трассы, правая сторона гетто находилась как бы в долине реки. Вход в эту часть был открыт. Мы не имели права переходить из одной части в другую, но переходили, чтоб никто не видел из властей. Таким образом, выход из нашего переулка на Русскую улицу был почти свободный (думаю, так было и для других переулков).
Вот почему могли выбегать на работу в подвал магазина. Мы все знали приблизительно время, когда власти появлялись на Русской улице, в это время никто не высовывался туда (могли и застрелить). Основной базар для крестьян тоже был с правой стороны. Базар собирался раз в неделю по воскресеньям. Так, рискуя жизнью, бегали с одной стороны на другую, особенно в базарный день. Похоже, что румынам и итальянцам не мешала наша беготня!
Хуже, если появлялись немцы. Это были чаще всего не немцы, а эсэсовцы! Тогда в гетто всё и все замирали. В общине всегда предупреждали о приезде СС! Старались, чтоб они в гетто не заходили вообще, но это не всегда удавалось. Как только поступал сигнал о появлении СС, начинали собирать драгоценности для них! Конечно, у молдавских евреев нечего было брать. Выручали местные евреи и буковинские евреи! Они спасали свою жизнь и нашу тоже. За все время пребывания в гетто я не слыхала о плохом поведении СС, если они и заходили в гетто, то только ради любопытства и делать снимки.
Я один раз столкнулась с двумя немцами СС. Это случилось весной 1943. Обычно община предупреждала о появлении СС, и в гетто все и всё замирало! Что-то я не услыхала об этом, меня не предупредили, забыли. Я проснулась утром, дома никого нет. Нужно было в туалет. Мне не хотелось сделать необходимое дома (это было нелегко, ведь комната была проходной), и я побежала в общественную туалетную. Туалетная для всех — это яма длиной в десять метров, шириной в 2,5–3 м и глубиной 1,5–2 м, наверху поперек выложены бревна, на бревнах прибиты доски, наверху досок из досок опять сделаны типа собачьих домиков, двенадцать таких «кают» с дыркой посередине. У этих «кают» было что-то в виде двери, которая почти не закрывалась. Подход к этим дверям по доскам, через которые светится содержимое ямы, где летом кишел миллион червей! Страшное и далеко не безопасное место! Зимой подход к дверям превращался в каток! Рядом с туалетной была и мусорка. Оба эти места находились на пустыре сзади общины. Вот сюда я и направилась.
Был прекрасный солнечный теплый день. Я выбежала из переулка и обратила внимание, что площадь перед общиной и улица пустые, но не остановилась. За общиной был вал где-то с метр высоты (земля насыпана), я с ходу поднялась на этот вал и остолбенела: буквально в 1–1,5 м от меня стояли два солдата СС. Я стояла как вкопанная, помню только мысль промелькнула: пусть стреляют, только чтоб не бросили в эту страшную яму! Как-то рассказывали, что СС бросали людей в такие ямы и развлекались! Не скажу, сколько прошло секунд, возможно минута, мне достался удар плетью (сплетенный бич из двух или трех кожаных ремней) по бедру и попе, две черные полосы долго сохраняились на моем теле! Я в одно мгновение приобрела подвижность, сорвалась с места и бежала без оглядки домой. Нет, они не стреляли мне вслед, я слышала только хохот. Или мне показалось, или в самом деле они меня фотографировали! Я представляю, как я их ошарашила: этакий ходячий скелетик с глазами, полуодетый и стою перед ними. Не помню, чтоб я в тот момент почувствовала боль, только мысль: спасайся. Потом я узнала, что накануне предупредили без особой надобности из дома не выходить. Что СС могут войти в гетто, невзирая на все подарки! И еще черт только знает, что может им стукнуть в голову! Я отделалась легко.
Это эпизод. Каждый день в гетто были ЧП, я же рассказываю только особые случаи, свидетелем которых я была. К концу декабря 1941 в переднюю комнату нашего дома вселилась пара молодых людей — 35-36 лет, а может и моложе, он из Молдавии, она из Румынии. Он звал ее «румынкой» — неплохая женщина, а он — профессиональный вор. Это он тогда украл мамин зимний полушубок из этой комнаты. Но как соседи — они относились ко всем жителям дома нормально. Ведь их комната была самой проходной. Никогда не ругался, у нас не воровал, всегда был готов помочь. Жену свою он любил безумно, но так же безумно мог бить ее. Они рассказывали, как правдой и ложью он добился, что она вышла за него замуж, и т.д.
Из этой передней комнаты был вход на кухню. Дверь эту замуровали, и кухня стала как бы секретной комнатушкой. Потолок закрыли, а из второй смежной с нами комнаты, прямо за дверью была типа бельевая с полочками. Вот из нижней полки бельевой открыли вход в кухню-секретку. Туда наши девушки часто прятались. Обнаружить секретку не стоило особого труда, но все же секретка и желание верить, что она может спасти!
Я уже писала, что каждый прожитый день в гетто был наполнен событиями (27 месяцев). Но я выхватываю из всего этого времени особые случаи. Так, где-то осенью 1942 к нам в дом, к згурицким соседям прибыли женщина с сыном, возможно, на год старше меня. Как мы узнали потом — это были их родственники из Буковины, которые, по несчастью, попали в лагерь в Балту (где-то за Балтой)[48] — в зону немцев. Их история была ужасной.
Часть населения из Буковины отправили на работу за Балтой. Они тоже могли захватить с собой ценности и продукты. Там сразу отделили детей до 12 лет, старых людей и больных и сразу же расстреляли. Имена забыты, но ее мальчика оставили живым, так как он владел свободно немецким языком. Его оставили переводчиком при немецком штабе. Мама же, как и все остальные, работала в каменных карьерах и носила камни под плетьми немцев. Только что она лучше питалась: мальчик приносил ей остатки пищи, что ему давали. Но это «счастье» не могло тянуться долго — по истечении восьми-девяти месяцев изнурительной работы их решили ликвидировать. Этот немец-начальник успел за это время привязаться частично к мальчишке, и он ему сказал, что ночью их расстреляют. Спасайся как можешь.
Когда он вернулся в лагерь, он рассказал об этом матери. Все знали, чем кончится эта работа, ходили слухи. Он и его мама давно уже сделали нору под кроватью под полом (секретка, где они держали драгоценности и деньги). И в эту страшную ночь, когда всех выгнали на расстрел, они спрятались в этом месте. Им слышны были крики людей, стоны и стрельба. После экзекуции проверили помещение, закрыли его и поставили одного солдата у дверей.
Когда стемнело, на второй день они вылезли, тихонько собрались, постучали в дверь, и мальчик просил солдата открыть дверь. Солдат узнал голос мальчишки, открыл дверь и выпустил их. Но он тут же опомнился и поднял тревогу; их счастье, они успели юркнуть в кукурузное поле рядом. Как их искали! Зажгли все фонари, обшарили все места вокруг, но их не нашли: на их счастье, в этом лагере не было собак! И только под утро они нашли друг друга и пустились полями, лесом подальше от населения к Бугу, самое страшное было перебраться через Буг. За Бугом начиналась Транснистрия, где властвовали румыны. Убивали и издевались как хотели и здесь, но массовых убийств не было. Евреи жили в гетто, как мы. Как рисковали, нашли людей, заплатили им золотом и деньгами, и их переправили через Буг ночью лодкой. Мир не без добрых людей! Ведь они могли забрать все золото и еще получить большие деньги от немцев, выдав их! Немцы платили деньги, чтоб замести следы своих деяний, и старались не оставлять свидетелей.
Еще надо было уйти подальше от Буга и со стороны Транснистрии. Угроза выдачи не миновала еще. В течение недели они пробирались в Бершадь — крупное гетто. Узнали каким-то образом через базар, что здесь находятся Шнайдерманы-сироты, которые им приходились троюродными братьями, и так они появились в нашем доме. Остаться здесь боялись, боялись нашего соседа-вора, который, выдав их, получил бы большую сумму денег, а их расстреляли бы после всего. Папа и мама посоветовали уехать из нашего гетто, что они и сделали. Не знаю, где эта женщина с мальчишкой, они вернулись на Буковину, но сироты жили в Сороках у своих родственников Спиваков, а нынче они все с семьями в Израиле.
В эту комнату вселились муж, жена и воспитанник их — приемный сын Хуналы, мальчик моего возраста, мы учились вместе в школе в Згурице, умный способный мальчик, он уже тогда руководил всеми делами дяди. Дядя делал какие-то дела, а Хуналы вел все расчеты. Дядя был совершенно неграмотный. Хуналы мог «сэкономить» из расчетов пару марок, так что он приходил ко мне на базар, покупал у меня яблочки-«мордочки»[49] и меня же угощал. Я не могла позволить себе съесть яблоко, все было под счетом, ведь лишнее яблоко — лишняя марка, можно купить все необходимое для жизни. Папа в базарный день покупал у крестьян фрукты и овощи оптом, а я их продавала на базаре поштучно. Навар получался не ахти какой, но все же заработок был.
В это время, лето 1942, мы буквально ожили. Этот базарный навар, сестры работали в подвале — крупная поддержка. А вот к концу 1942 мы вообще стали жить хорошо (по тем меркам). Как и всюду во время войны, в магазинах ничего не продавалось, все стало дефицитом. Мы все, сестры, хорошо вышивали, нас учила мама, и вообще это было модно тогда, еще до войны. На базаре покупали почти «новые» простыни или другие материалы, красили их в черный цвет и разрезали на косынки, даже делали какую-то бахрому. Опять-таки на базаре покупали старые вязаные вещи из шелковых ниток любых цветов. Эти вязаные вещи распускали, и у нас были нитки всех цветов радуги. Туба нарисовала орнамент вышивки на одном из углов косынки. Вышивали гладью все три сестры, я тоже умела вышивать, но мне доверяли только распускать вязаные вещи на нитки. Сделали пробу — и получилось, платки были очень красивыми, их на базаре хватали крестьяне. Так мы заимели еще заработок. Трудились днем и ночью, чтоб в воскресенье выйти на базар с косынками.
Кроме этого, надо было выполнять работу на общину. С весны до поздней осени требовали людей на работу румынские власти. Община назначала на каждый день по 30 человек на работу к румынам. Никто не отказывался от этой работы, хоть оплата за день работы по разбору домов на стройматериалы составляла мисочку чечевицы или гороха, а в лучшем случае четверть буханки хлеба. На эту работу по очереди попадали все, я же подметала площадь перед общиной, тоже зарабатывала лишние 200 г хлеба, другой раз немного соли — дефицит. Короче, избавились от паразитов, имели что кушать — почти нормально, можно было бы ждать конца войны. Но постоянно над нами висел меч: нас могли ликвидировать в любой момент. К нам явились папины двоюродные брат и две сестры Хают, они жили в селе недалеко от Бершади, их маму расстреляли вместе с моей бабушкой! Они пережили все трудности лагерей и гетто, по соседству с нами. Хочу подчеркнуть, что стало легче в смысле свободы передвижения, бежать некуда было, но переходить из гетто в другое гетто можно было, конечно, очень осторожно.
Праздники Йомкипур, Рошошуна и Сикис[50] мы уже отмечали более «богато». Никаких сладостей, но покушать было почти досыта. Почти не стало нищих в гетто, все, кто выжил в зиму 1941–1942, как-то приспособились зарабатывать себе на пищу. Какие же молодцы мои золотые евреи! На пустом месте, без средств и условий жизни, они вышли «победителями», выносливость и умение приспосабливаться спасли многих от верной голодной смерти. Я всегда восхищалась тем, что видела на базаре: всё, всё, что нужно было, можно было найти на базаре! Откуда и как оно попадало сюда?! Жизнь нас учила веками, как выживать!
Наступил 1943, шел второй год пребывания в гетто. Легко об этом писать сейчас! Зимой всегда было труднее: одежды теплой не хватало, ограниченное передвижение, холод, снег и пр. неудобства. Базары стали небольшими, но существовали. Продавали только платки, да работали в подвале, когда требовалось, да убирали снег возле общины, возле комендатуры. Соответственно и заработок упал, но не голодали. Я, большей частью, была дома, следила за печкой, убирать особо нечего было. Вязали из старых ниток, вышивали, мне доставался более легкий труд.
Весна была очень ранней. Уже в марте месяце было довольно тепло. Пурим и Пейсых и Швис праздновали по-своему, согласно условиям. Опять приходили соседи слушать, как молится Ишие Гринзайд, или как мы поем! После праздников всё пришло в движение, жизнь продолжалась! Какая жизнь? Это уже другой больной вопрос.
Стало жарко, лежать всем на этом топчане было тесно и жарко. Папа сделал поперек у окна еще один топчан на одного человека, на большее не хватило место. Папа спал у открытого окна на новом топчане, а я приспособилась возле него валетом. Видать, крыша немного протекала, и после очередного дождя на папу и меня обвалился потолок. Это не просто потолок, это строение типа: перекладывают бревна на стенах, на эти бревна прибивают дранки (полоски досточек), потом из глины и перегноя делают смесь и заделывают дыры, а потом два-три раза мажут глиной и разравнивают — вот эта масса потолка (20-25 см толщиной) упала на нас. Папе сильно ударило по ногам, а моя голова и грудь приняли бы основной удар, если бы эта масса прикрыла бы меня. Но и тут мне повезло, эта часть потолка упала на меня так, что образовался угол из двух кусков, а я в этом углу! Удар был оглушительным по звуку, все проснулись с криками: «Фрима убита», на этот крик прибежали домашние соседи, соседи из переулка, такой был переполох! Я отделалась несколькими синяками и царапинами, а папа вышел из строя на несколько дней. Это случилось под утро, до утра никто уже не спал, выносили мусор через окно и благодарили Бога, что я не погибла.
Через месяц нас настигла другая беда. От Шренцеля, главного руководителя общины, требовали людей на работу к немцам в Николаев[51], Балту, Печеру[52] и т.д. Бедный др. Шренцель, он должен был отобрать молодых людей и посылать их на верную смерть, ибо от немцев никто никогда назад не возвращался. Там конец был один: расстрел после изнурительной работы.
Вот летом, 1943, черная доля выпала одной из дочерей Ишие Гринзайда. Что делать?! Мама сразу объявила: «Едем все вместе, я никого от себя не отпущу. Умирать будем вместе». Как всегда, среди евреев гетто нашлись родители, которые готовы были уплатить (из местного населения или из Буковины), чтоб спасти своего ребенка. А ведь мы ехали всей семьей — 6 человек, а не одна. Нам было все равно, кого спасут и нами их заменят!
Правда, некоторые люди нашли нужным принести нам какую-то одежду, платили какие-то деньги. Но кто скажет, какая цена человеческой жизни?! А кто об этом думал тогда?! На эти деньги папа накупил продуктов в дорогу. Он говорил: «Перед смертью — покупаем вдоволь!» Как это было близко к истине! Итак, всей семьей вместе с другими, на 10 подводах в сопровождении румынских солдат, в путь по украинским дорогам в лагерь смерти на Украине — Печера. В дорогу община нам выдала хороший паек пищи (все относительно)
Ехали мы дня три (не помню точно), ночевали в основном в лесу на земле, питья и еды было почти вдоволь, кушать не очень хотелось: впереди всё неизвестное. Отношение конвоиров было не строгим: куда мы могли деться? Лелеяли надежду, что это все же не к немцам. Мы ничего не знали об этом лагере смерти. На улице май — самая лучшая пора весны: красота по дороге неимоверная! Но все угрюмы, грустные, как на похоронах.
Нас привезли на какую-то площадь, немаленькую, а за площадью, за высокой стеной и за наэлектризованной проволокой лагерь рабочей силы для немцев — а конец известен. Однако люди остаются людьми, а надежда умирает последней! Прибыли. Но колонел[53] (военное звание личности), который должен нас принять, в отлучке. Никто нами не занимается, кроме нашей стражи. На площади убирают два-три еврея. Папа потихоньку приближается к одному из них поговорить, как да что. Ответ привел папу в ужас: всех старых и детей сегодня же расстреляют, остальные будут работать, пока упадут, а не упадут — их расстреляют. Можете удрать отсюда — это единственный выход, чем быстрее, тем лучше. Кормят плохо, издевательствам нет конца.
Вернулся папа к телегам буквально почерневший. Тихо говорят все взрослые между собой. Вечный вопрос: что делать? Посоветовавшись, решили, что пять наших девушек с подвод во главе с моей Тубой подойдут к колонелу и расскажут наше положение. Почему Туба? А потому, что она говорила лучше всех по-румынски, она ведь и Пая учились в гимназии. Да, вообще Туба умела говорить. Туба готовилась поговорить и разжалобить этого человека — это была основная задача. Как были мы все одеты — жалко было смотреть на нас — одни латки.
Где-то к концу дня зашевелились все солдаты: ясно, приехало начальство. С появлением на площади колонела пятеро девчат во главе с Тубой вышли к нему, упали на колени, и Туба начала говорить: «Посмотри, кого тебе прислали, здесь в основном старики и дети, разве такая рабочая сила тебе нужна» и т.д. и т.п. Этот колонел слушал ее, не перебивая. А потом спросил, откуда она знает румынский. Она ответила, что все пятеро девушек из Молдавии, а она училась в гимназии. О Великий наш Бог, ты совершил очередное чудо! Ты нас спас от верной смерти! Устами Тубы говорил Бог. Колонел еще подумал с минуту (для нас целая вечность) и сказал: «Уезжайте назад, вы мне не нужны!». Это ли не чудо?! Он тут же подписал какие-то бумаги, и мы сразу, уже темнело, пустились в обратный путь, мечтали, чтоб он не передумал!
Назад в Бершадь! Пусть будет что будет, но назад в гетто, где свои евреи! Помню, как нас провожали, все плакали, знали, что едем на верную смерть. Но вы бы видели, как нас встречали у общины! Даже кони назад неслись быстрее: подальше от этого Печерского лагеря — единственный лагерь смерти на Украине (в Транснистрии), еще звали этот лагерь «Мертвая петля». Нас встречали очень многие со слезами на глазах. Мы вернулись с того света! Шренцель и все из общины выскочили, не верили своим глазам, что мы вернулись! Тихо поздравляли нас и просили без шума уйти по домам.
Конечно, и в гетто нас могли расстрелять в любой момент, в гетто мы жили несладко, но здесь все свои, и это не лагерь! Туба, дорогая моя сестра, ты говорила от имени Бога, ты помогла нам спастись! Все ее обнимали и плакали. Мы все верим, что чудо совершил Бог! Это не первый раз мы спаслись всей семьей. Нашу комнату никто не занял. Мы вернулись туда же и были рады. Папа мой молился все время в пути и там.
Как-то начали опять работать ради пищи, чтоб выжить. Выжить во что бы то ни стало, выжить, чтоб было кому рассказывать через какие муки ада мы прошли только по единственной причине, что мы евреи! Но ничего не проходит бесследно в нашей жизни, а Туба перенесла такой стресс! Она сильно заболела. Болеть в наших условиях, когда нет врача и нет лекарств! С неделю Туба болела дома, и ей становилось все хуже. Бедная моя мамочка билась как рыба об лед.
В Бершади, оказалось, был немецкий госпиталь, немецкие врачи. Это было единственное место, куда можно было обратиться. В этом госпитале работала местная медсестра, кем она работала — не знаю, но она устроила встречу мамы и доктора-хирурга. Положение Тубы с каждым днем становилось все хуже. В гетто многие знали Тубу, не только згурицкие и сорочане, ведь она работала вместе с людьми в разных местах. Все интересовались ее здоровьем, уже считали ее мертвой. Моя мамулечка пошла на встречу с немцем-хирургом и упросила его посмотреть дочь. Наняла подводу и отвезла Тубу в госпиталь. Поехали мама, папа и Пая, ведь госпиталь был вне гетто. Врач принял ее. Час они ждали появления врача. Целый час — вечность. Состояние мамы, и Паи, и папы трудно себе представить. Врач появился и объяснил, что у Тубы жидкость в животе, что это очень редкое явление в медицине, что он сталкивается второй раз с этим явлением, болезнью, которая появляется от сильного стресса-испуга. Выход один — качать воду, причем это надо делать немедленно, ибо жидкость подходит к сердцу и тогда уже помочь невозможно будет. Он еще сказал, что дорога каждая минута и что ее уже готовят на операцию. Он еще сказал: «Я буду качать жидкость, а вы просите Бога, чтоб больше не прибыло, и тогда Ваша дочь будет жить. Вода в организме имеет плохую манеру прибывать».
Боже мой! Кто бы подумал, что немец-хирург будет возиться с бедной еврейкой, спасая ее от смерти! Но чудо свершилось! Среди немцев были порядочные люди. Они вынужденно служили фашистской власти. Мама, папа и Пая остались ждать в госпитале, вне гетто, где было небезопасно. Но все обошлось благополучно. Операция прошла на высшем уровне — очень порядочный, добрый и честный немец! Божье чудо спасло Тубу! Хирург появился из операционной с миской синеватой воды (больше полведра) и показал маме: «Вот что я выкачал из живота Вашей дочери, еще немного и было бы поздно. А теперь просите Бога, чтоб вода не прибывала». Бог нам помог, вода не прибывала. Туба была спасена от смерти. Этот немец-хирург-человек сделал все для ее спасения, пусть даже профессиональная заинтересованность, но надо же хотеть помочь бедной еврейке из гетто. Мы ему очень благодарны. Туба сильно пострадала от этой болезни: пострадали печень и почки, и у нее не было детей. Прожила она 82 года и умерла в Израиле в 2002, а тогда ей было 21 год!
Мы знали все новости с фронтов. Уже отгремела Сталинградская битва. Уже шли бои на Курской дуге и под Уманью. Результаты этих последних боев, особенно за Умань, мы видели: мы видели отступающих немцев, итальянцев с оружием в руках, но очень побитых, без сапог. На наше счастье, путь отступления немецких частей и СС-бригад шел мимо Бершади. Те же солдаты, которых занесло случаем в нашу сторону, были безвредны, обычные потерпевшие поражение и убегающие солдаты. Им не было дела до нас. Но мы дрожали, чтоб отступающие войска нас не ликвидировали. Часто наши девочки прятались в «секретке», думали, это их спасет.
В конце декабря или в начале января 1944 случилась страшная беда в Бершади. Неизвестно кем был передан в комендатуру список людей, помогавших партизанам в нашем краю! Начались аресты. Пострадавших было много, среди них оказались доктор Шренцель, наша спасительница из магазина на Русской улице, наш сосед Дувыд, его дверь в дом была напротив окна из нашей комнаты. Где-то в два часа ночи мы услышали стук в двери Дувыда, в переулке у нашего окна стояли румыны и немцы, они пришли арестовать соседа. Наш испуг трудно передать: чтоб выдавить наше окно, достаточно было приложить руку, а ведь мы не знали причину переполоха и шума, думали, уже пришел конец! Девчата все уже были в секретке, тогда мы подумали, какое это шаткое спасение! Ведь немцы пришли с собаками!
Но на этот раз нас не имели в виду, были другие жертвы пока. В эту страшную ночь арестовали еще несколько евреев из гетто, и нашего председателя общины в том числе, и человек пятнадцать украинцев, в том числе нашу красавицу завмагазином. Их обвиняли в оказании помощи партизанам. Не могу себе представить, какую помощь партизанам могли оказать жители гетто! Другое дело доктор Шренцель, в его распоряжении была пища, соль и одежда, счет всему этому знал только он, и он действительно оказал большую помощь партизанам! Такие же возможности были и у завмагазином. Остальные попали в этот несчастный список за мелочи! Мне судить обо всем этом невозможно. Это мое мнение. Но как жестоко их допрашивали, как над ними издевались, мы узнали, только когда раскопали их могилу по приходе Советов в город. Очень и очень жаль этих людей!
Мы были в курсе событий, потому что наша соседка, жена и двое дочерей Дувыда получали письма от Дувыда. Им разрешили передачу пищи в тюрьму, и они забирали посуду из тюрьмы. Пробки для бутылок с молоком являлись записками. Такие записки поступали часто. Наши соседи, стоя у окна, читали записки, как их мучают, чтоб выдали других людей! Где-то в конце февраля была получена последняя записка от Дувыда, он прощался с женой и дочерьми, ибо ему стало известно, что завтра на рассвете их расстреляют! Какая трагедия! Как они плакали!
Эти последние месяцы в гетто — это новые инциденты ежедневно. Это страх за нашу жизнь. Это трудно описуемые душевные муки! Жизнь в гетто замерла, боялись лишний раз выйти из дома, боялись любого шума, выстрела или крика. Нам повезло, что немцы отступали в большой спешке, советские войска наступали им на пятки! Нам повезло, что нас освободили раньше партизаны, среди них были дети наших местных евреев![54] Нам повезло, нас спасал Бог.
Освобождение
Пурим в 1944 выпадал в марте, и в первый день Пурима в Бершадь вошли партизаны, а через два дня зашли регулярные советские войска [55]. Мы были спасены. Бог нам помог выжить всей семьей для того, чтоб рассказали всем, и особенно детям и внукам, об этой человеческой трагедии, об этих ужасах голода, холода, унижений, оскорблений и т.д., через которые мы прошли! Символично, что нас освободили партизаны в первый день Пурима 1944![56] Еще одно чудо от Бога.
Чтоб закончить быль о Холокосте, я обязана рассказать о гибели семьи Вайсман, моей тети Тубы с семьей. Я писала, что недалеко от Крыжополя тетя Туба решила задержаться и дождаться дяди Абрума — мужа. Беда нагрянула быстро. В очередном перегоне людей потерялась маленькая Аделя. Что это означало для Тубы-мамы — не описать. Поиски ребенка не дали результатов. Тетя Туба заболела, обеспечивать ей условия некому было, и вскоре она умерла. Остались Бейрыш (мой жених) и Рахиль — двое изнеженных детей, которые замерзли в свинарнике. Кто мог помочь им: мы были далеко, а остальным не было дела до чужих детей, своих не могли прокормить.
Я писала, что из Косоуцкого леса в числе 260 евреев был и дядя Абрум. Его забрал хозяин, на которого он работал еще до войны, он был очень хорошим механиком. Его условия в Сороках были отличными от всех: его кормили хорошо, его приодели даже. Когда рабочие узнали, что завтра расстреляют евреев, на свой риск и страх они переправили дядю через Днестр на Украину. Естественно, он стремился найти свою семью. Он отшагал большое расстояние от Цикиновки[57]. К несчастью, заболел тифом и умер, не дойдя до семьи. Ужасная трагедия! Исчезла целая семья (разве одна?) с лица земли. Все это мы узнали от людей знавших их, уже после войны. Какая страшная судьба!
Итак, мы еще в Бершади, нас освободили партизаны. В первый день бомбили, но не гетто, а комендатуру, видать, с целью уничтожить архивы. В двух подвалах были найдены застреленные итальянцы, а мы — узники гетто — не пострадали! Еще через день вошли русские войска. В нашем переулке стояли «катюши». По старой привычке не очень выходили за пределы гетто.
Через несколько дней только дошло окончательно, что мы освобождены! Можно двинуться домой, в Молдавию, но стресс и испуг в ту ночь, когда забрали Дувида, опять сказались на здоровье моей сестры Тубы: у нее вода в легких. Положение изменилось. Рядом уже наши советские врачи, есть и лекарства, и более-менее уход. В связи с этим мы задержались в Бершади до июня месяца. Вот совсем не удержалось в памяти, как мы жили эти два месяца! Но отлично помню, что, собрав свои тряпки и какие-то продукты, по узкоколейке мы уехали в Ямполь, там переправились паромом через Днестр и пешим ходом ушли в Сороки. Почему не в Згурицу? Наш дом сгорел, на том месте устроили сушилку овощей и фруктов, нам там нечего было делать.
В Сороках был дом тети Тубы, и мы надеялись еще, что кто-то жив из них! Нам не привыкать начинать все с нуля! Стены и крыша на месте, есть убежище. Приспособили все окна и двери. Где-то нашли кровать, кто-то дал стол и два стула. Папа и здесь для начала устроил топчан. Места было предостаточно. Папа восстановил печку и в печь для отопления вмонтировал духовку, чтоб можно было во время топки печи сварить пищу или испечь картошку, это в зимнее время, а пока пользовались припечиком. Власти нас обеспечили продуктовыми карточками, так что от голода не умирали.
Потихоньку-помаленьку, с помощью находчивости и мастерства папа сделал три табуретки, сколотил столик в кухне. Папа привел в порядок сарай, и все мы натаскали туда дрова на зиму. Папа первый стал работать по сбору утильсырья и получал какую-то зарплату. Туба пошла работать бухгалтером в Заготзерно (где и работала главбухом до пенсии). Пая и Молка закончили шестимесячные курсы учителей младших классов и стали обучать молдавских детей в селе. Я готовилась в школу. Ведь мне шел 15-й год, а я закончила только 5 классов. Таких переростков оказалось много и среди тех, которые возвращались из эвакуации. Я решила, что пойду в 7 класс. Но я не имела понятия об алгебре, геометрии, физике, химии. К большому сожалению, я не запомнила имя еврея-педагога, который бесплатно стал обучать нас основам этих наук. Ужасная неблагодарность! Этот учитель дал нам основные понятия алгебры, геометрии и физики, тогда я не оценила всю доброту этого человека-добровольца! Честь и слава ему!
И я пошла в 7 класс: смелый поступок, документов у меня не было. Но учителя были у нас очень талантливые и добрые, и знающие, и добросовестные. Итак, с нарывами на ногах (чулки ежедневно приклеивались к нарывам, а вечером я их отрывала вместе с кожей!), но я очень усердно занималась. Уж не помню как, но я полюбила математику, физику, химию — точные науки усвоила быстро. Трудно, очень трудно мне давался русский язык. Моя первая учительница Фаня Марковна тратила на меня дополнительное время. Она говорила: «Как я могу тебе поставить даже натянутую тройку, если там сплошные двойки!» Я говорила с ошибками, но литературу знала хорошо, а вот сочинения!
Директором школы (Сорокская русская школа) был Щукин, он преподавал физику, во мне души не чаял. Если у него были представители из гороно[58] или он был занят, я заменяла его в классе: решала задачи с моими сверстниками и т.д. Вот Щукин меня приодел: он выдал мне юбку, кофточку, жакет и туфли. Это поступала одежда для пострадавших детей, не знаю откуда. Это были первые одежки для меня! Я ведь ходила в школу очень плохо одетая! На ногах у меня были галоши и тряпки! Мои-то больные ноги с нарывами! К концу седьмого класса у меня было «отлично» все предметы, кроме русского языка. Педсовет постановил перевести меня в 8 класс без экзаменов из-за больных ног.
Я продолжала и летом заниматься русским, я знала наизусть грамматику, но писала с ошибками.
С наступлением тепла (весной) мама меня повела к накожнику Рапопорту домой на прием (я отказывалась идти к нему на прием в больницу, это же кожно-венерологический отдел). А в клинике врач поставила диагноз: туберкулез костей. Короче, доктор Рапопорт вылечил меня мазью за копейки в течение месяца. Пятна от нарывов долго еще стояли. Главное, с тех пор (1945 года) я в жизни больше не знала о нарывах, а на ногах тем более! Правда, всю жизнь у меня были больные ноги, а теперь тем более, следы того времени сопровождали меня всю жизнь!
[После войны]
Закончилась война, величайшая радость со слезами на глазах! Отпраздновали день победы 9 мая 1945 — как мы радовались, как мы оплакивали погибших! Через полгода с войны вернулся Тубин муж Шая Файнман — воевал с первой минуты до победы над Японией. Вернулся целый и невредимый. Вышла замуж Пая за Нуту Гойхмана и уехала жить в Черновцы. Вскоре вышла замуж моя Молка за Федю Берковича — инвалид войны, тоже воевал с первого дня до последнего.
Я продолжала учиться в школе, и можно сказать, довольно успешно. В 1948 я закончила школу почти с отличием, кроме русского языка. После войны Россия прошла через ужасный голод, Люди пухли от голода. Только к 1947 чуть-чуть поднялся уровень жизни, голод почти прошел, скосив много жизней. Еще не отменили карточную систему. Этот голод мы перенесли легче других, нам было не привыкать голодать!
Все хотели, чтоб я была врачом (я думаю, что из меня вышел бы неплохой врач), но, увы, в мединституте в Черновцах (куда еще я могла поехать учиться!) мне сразу дали понять, что я не поступлю. Я забрала документы из мединститута и подала документы в Черновицкий Государственный Университет. Экзамены по математике письменно и устно, по физике, по химии — отлично, по русскому — хорошо. К этому времени в СССР отношение к бывшим в лагерях или пленным было невыносимым (нас обвиняли за наши страдания!). Мне посоветовали написать в автобиографии, что я была эвакуирована! Какую я сделала ошибку! Пять лет учебы в университете — были пятью годами страдания: вдруг откроется обман!
Напомню, почему такой страх: все эти годы были годами страшного антисемитизма. Начнем с того, что, покончив с Михоэлсом, закрыли почти все еврейские театры в СССР, в том числе Черновицкий Еврейский театр, обвиняли в космополитизме. Этот еврейский театр был одним из сильнейших театров! За малейшую оплошность евреев исключали из университета. Был введен процентный прием евреев в ВУЗы вообще. И на закуску моей учебы в университете началось дело врачей-евреев-убийц в Кремле — страшное время для евреев в СССР[59]. К счастью, в марте 1953 умер Сталин. В этом году я благополучно закончила университет. Разумеется, из евреев нашего выпуска никого при университете не оставили, оставили украинцев, куда слабее наших! Я получила направление в техникум на Украину, недалеко от Винницы.
Но в Сороках директор Говоров узнал, что я закончила ВУЗ — физмат, пригласил меня к себе через Мишу Гринзайда и только требовал мое согласие работать у него. Я посоветовалась с родителями, дала положительный ответ. Говоров взял открепление в Виннице и взял разрешение работать у него. Таким образом я работала первый год в Сороках, у себя дома.
Летом я работала в Сорокском пединституте. А осенью приехал в Сороки мой будущий супруг — Александр Фроймович Усатинский. 30 октября сыграли свадьбу, гуляли два дня подряд. Свадьба была еврейской по всем правилам, хотя к этому времени синагогу давно закрыли и собираться молиться запретили. Однако старые люди города собирались тайно и молились по субботам и праздникам. После свадьбы мы гостили в Згурице два дня по приглашению родных. После октябрьских праздников с двумя чемоданами уехали на целину, в Кокчетав, где мой супруг работал инженером в Сельхозуправлении, по направлению из института. У власти был Хрущев Никита, он поднял целину. Об этом можно написать книгу.
На целине у нас родилась Танюша, в 1955 в октябре. Потом через 1,5 года со скандалом вернулись в Макеевку Донецкой области, там жили родители Саши, а рядом с ними не было детей. В Макеевке мы прожили с 1957 по 1992. Александр работал инженером на заводе Кирова 12 лет, потом на заводе ОТ и КИО (номерной завод). Здесь у нас родилась вторая дочь Анна, Аннушка. Дети закончили школу: Танечка с медалью, Аннушке медаль не дали. Оттепель после смерти Сталина прошла. Антисемитизм набирал силу! Дети закончили Новочеркасский политехнический институт. Таню оставляли работать при институте. Вскоре она вышла замуж за Александра Ойхмана, и они переехали в Макеевку. Аннушка закончила институт и работала в Курске, потом перевелась в Макеевку и вскоре вышла замуж за Бориса Шустерова. У Танечки два сына, у Аннушки одна дочь — мои внуки.
Я работала учителем и в вечерней, и в дневной школах, учила абитуриентов математике на курсах подготовки для поступления в ВУЗ при Макеевском металлургическом институте. Материально были обеспечены нормально, по советским меркам. Но антисемитизм не давал покоя, если даже не касался лично нас.
Небольшой пример: дети наши были инженерами-математиками, специальность нужная по тем временам. В Макеевке открылся завод, дети туда обратились, и отдел кадров был в восторге, обещали золотые горы. Через день они понесли в отдел кадров заявление, где была указана национальность. Вышел конфуз. Вызвали главного руководителя отдела кадров, и он стал объяснять, что за эти сутки успели принять других и прочую чепуху! Приказ был не принимать евреев на работу!
Примеров можно привести много. У детей появилась мысль, что ничего хорошего им в России не светит. Таким образом, Танечка с семьей выехали из России в Канаду в 1990. Через два года они вызвали нас: я и Саша, и Аннушка с Альбиной. Я и Саша уже были пенсионерами. Быть эмигрантом тяжело, но с первого дня мы не жалели, что покинули Россию. Когда мы уезжали, все было плохо.
Канада дала возможность нашим детям работать по специальности.
Канада нас обеспечила пенсией, мы живем хорошо.
Канада дала возможность моим внукам учиться на выбранном поприще.
Мы благодарны Канаде за все.
Россию помним и любим и желаем удачи во всем, чтоб людям жилось там легко.
[1] Выражаем признательность Леониду Терушкину за предоставление данного материала для публикации
[2] Имена собственные и еврейская религиозная терминология даются в написании автора воспоминаний. Следует учитывать, что в идише существует целый ряд местных говоров, в том числе и бессарабский, имевший свою специфику.
[3] Имеется в виду кампания «борьбы с космополитизмом», проходившая в СССР в 1948–1953 и быстро принявшая антисемитский характер.
[4] Не вполне точная цитата из гл. 41 романа «Блуждающие звёзды», приведена автором явно по памяти. Вариант Ноаха Финкельштейна (которому мы приносим благодарность): «(h)ымл ын эрд (h)обн гешвойрн, аз гурнышт зол ныт вэрн фарлойрн» — «Небо и земля поклялись, что ничего не должно быть утрачено», то есть забыто.
[5] По указу Николая I в Бессарабии было создано около десятка «еврейских земледельческих колоний», где евреи могли получить землю в бессрочную аренду. Одной из крупнейших среди этих колоний и была Згурица, основанная в 1853 . По данным переписи 1930, евреи составляли 83,9% населения села (2541 человек).
[6] Речка Кайнар, выше Згурицы — пересыхающая.
[7] Точнее, плант (от польского planty ‘бульвар’ < лат. planta) — здесь: улица с деревьями, аллея. См.: Ковалёв Г.Ф. Почему плант не план // Педагогическое регионоведение, 2016, 1(9). С. 20–26. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32312121. Под «новыми планами», скорее всего, понимаются размеченные на местности, но еще не застроенные улицы Згурицы.
[8] Ныне город Дрокия. Не путать с одноимённым селом в том же районе.
[9] Таль, Сиди Львовна (Биркенталь, Сореле, 1912–1983) — актриса и певица, до 1940 выступала в Черновцах, Яссах и Бухаресте, с 1946 — в еврейском ансамбле Черновицкой филармонии. Застуженная артистка УССР, наставница Софии Ротару, внесла огромный вклад в создание ансамбля «Червона рута».
[10] Гузик, Анна Яковлевна (1909–1994) — еврейская советская актриса. После войны выступала в Ленинграде, затем в Киевском театре еврейской оперетты. Искусством трансформации владела в совершенстве, что позволяло ей одной разыгрывать пьесы с несколькими ролями. В 1973 репатриировалась в Израиль.
[11] «Колдунья» («Ди кишуфмахерн») — роман Авраама Гольдфадена;: роман «Блуждающие звёзды» («Блонджендэ штерн», история еврейских артистов из бессарабского местечка) и повесть «Тевье-молочник» («Тевье дер милхикер») — произведения Шолом-Алейхема (Шолом Нахумович Рабинович); «Молкалэ-солдот» — «Малка-солдатка» (?); «Йосэлэ» («Йосик», уменьш. от «Иосиф»); «Ди йисоймэ» — «Сиротка» (ж.р.); «А мон а лэмэшке» — «Муж-слабак» (авторов установить не удалось). (Благодарим Ноаха Финкельштейна за разъяснения.)
[12] Аврум Мататьяху Фридман (1847-1933), цадик (хасидский праведник) из города Штефэнешть (в уезде Ботошань, Румыния, близ Прута). См. о нём: Каспина М. Почитание Штефанештского ребе: прошлое и настоящее // «Старое» и «новое» в славянской и еврейской культурной традиции / Отв. ред. О.В. Белова. Москва: Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер», 2012. C. 120–136. URL: https://www.academia.edu/Почитание_Штефанештского_ребе_прошлое_и_настоящее (дата обращения 27.04.2025).
[13] От рум. cârciumă — корчма
[14] Симхáт Торá (буквально «Радость Торы») — праздник в честь окончания годичного цикла чтения Торы и начала нового цикла. Вне Израиля приходится на 23 тишрея (обычно на октябрь).
[15] Габай — староста в синагоге
[16] Мансы — рассказы, повестушки; (перен.) россказни.
[17] В 1941 966 румынских леев равнялись 1 доллару США: http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/istoria-cresterii-si-descresterii-monedei-nationale-5834.html (дата обращения 23 марта 2002)
[18] Тноим (буквально «условия») — первоначально контракт между семьями жениха и невесты об
обязательствах по организации свадьбы, подписываемый во время праздничной церемонии помолвки; также сама эта церемония.
[19] Рыбы — то есть ребе (учитель, здесь — обращение к почтенному человеку); а — артикль.
[20] Точнее: עס איז נישט געווען Эс из ништ гэвэн — Этого не было; עס איז נישט דא Эс из ништ да — Это не здесь (или עס איז נישט Эс из ништ — Этого нет); עס ווערט נישט זיין Эс верт ништ зэйн — Этого не должно быть (Этого не будет); רעדט זיך נישט איין Рэдт зих ништ эйн — Не придумывай себе! (Благодарим Ноаха Финкельштейна и Василия Вишневского за перевод.)
[21] «Говорите только по-румынски»: правило, установленное в период королевской диктатуры 1938–1940. Это требование ущемляло не только национальные меньшинства, но и молдаван, обычно говоривших не на литературном румынском языке.
[22] Миньян — минимальное число людей, необходимое для совершения обряда.
[23] Йорцайт — годовщина смерти по еврейскому календарю. Дети в память о родителях отмечают их йорцайт прочтением в синагоге молитвы «Кадиш» (во время вечерней, утренней и дневной молитв), зажжением суточной мемориальной свечи, дополнительными благотворительными пожертвованиями и добавочным изучением Торы в этот день. Если могила ушедшего находится неподалеку, принято посещать ее в день йорцайт (если он не выпадает на Шаббат или еврейский праздник) и прочитывать особые молитвы.
[24] По данным Яд Вашем (https://collections.yadvashem.org/ru/names), из 2,4 тыс. евреев, живших в Згурице до войны, было уничтожено 952 человека (в том числе 19 человек с фамилией Гринзайд), зарегистрировано в эвакуации — 155, пережило — 51, погибло на военной службе — 9 (речь идёт только об известных поимённо). Для расследования преступлений оккупантов по горячим следам в 1943–1945 работала специально созданная Чрезвычайная государственная комиссия (см. её материалы: Национальный архив Республики Молдова. Ф. 1026), но из Згурицкого района в неё не поступило ни одного документа о человеческих жертвах.
[25] От рум. bașcă — подвальное помещение
[26] Şef de post (рум.) — начальник жандармского поста (одного на несколько сёл), чаще всего в звании плутоньера (сержанта) или плутоньер-мажора (старшины).
[27] Ро(й)фе — врач в религиозной общине; ребе — раввин; шойхет — резник (забойщик скота по правилам кошерности).
[28] Рубленица — село примерно в 3 км к западу от Сорок и в 10 км от Згурицы.
[29] Места, о которых идёт речь, расположены в северной части Молдавии, практически уже в карпатских предгорьях. Ночи в этих местах холодные даже летом.
[30] Вертюжаны (ныне село Флорештского района на обрывистом берегу Днестра) были основаны в 1838 в качестве еврейской земледельческой колонии (как и Згурица). В 1930, по румынской переписи, в селе жило 1843 еврея, или 91% всего населения. С июля 1941 по зиму 1944 здесь находился пересыльный лагерь.
[31] 22 августа 1941 комендант лагеря №5 в Вертюжанах, жандармский подполковник Александру Г. Константинеску докладывал в 3-ю армию, в частности, что выбор Вертюжан для лагеря был неудачен: нет ни воды, ни возможности снабжения. Из доклада видно, что комендант пытался обеспечить какие-то минимальные условия для жизни, но не мог ничего добиться: как 3-я армия, так и сорокская префектура на просьбы помочь с едой оответили отказом. См. Traşcă O. (ed.). „Chestiunea evreiască” în documentele militare române: 1941–1944. — Iaşi: Institutul European; Editura Institutului pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, 2010. P. 246–248, док. 91.
[32] Макуха — жмых.
[33] Похлёбка, которую готовили из кипятка и кукурузной муки (https://proza.ru/2016/07/23/1448)
[34] Косоуцы — село на Днестре близ Сорок, напротив Ямполя. В июле 1941 г. румынские власти пытались отправить через него в немецкую зону оккупации часть бессарабских евреев, но в августе немцы выслали их обратно (Traşcă O. (ed.). Op. cit. P. 2010: 233-234, док. 81). Для их концентрации в Косоуцком лесу был создан транзитный лагерь. Поскольку он был рассчитан лишь на краткосрочное пребывание, никакое «благоустройство» — даже такое, как хотя бы в Вертюжанах, — в нём не проводилось. 12.000 евреев из Вертюжан были первыми, кого депортировали через Косоуцкий лес; при этом половина из них была расстреляна или погребена заживо, а у остальных представители Национального банка Румынии отбирали сохранившиеся ценности и румынские леи, обменивая их на «рубли Транснистрии» по произвольному курсу. Лагерь был закрыт в конце 1942 г. См.: Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945. Vol. III: Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with the Nazi Germany / Volume editor Joseph R. White. Published in association with the United States Holocaust Memorial Museum (USHMM). Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2018. P. 651–652; Солонарь В.А. Очищение нации. Насильственные перемещения населения и этнические чистки в Румынии в период диктатуры Иона Антонеску (1940–1944) / Авторизованный пер. с румын. А. Тулбуре под ред Л. Мосионжника. — Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020. С. 261.
[35] В акте комиссии Сорокского района от 26–27 апреля 1945, поступившем в ЧГК МССР (Чрезвычайную государственную комиссию по расследованию злодеяний немецко-фашистских преступников и их сообщников), говорится, что оккупанты «замучили голодной смертью и зверски уничтожили большое количество ни в чем не повинных советских граждан и там же их закопали». Число жертв в двух братских могилах оценено приблизительно в 6 тысяч человек. Учитывая обстоятельства работы комиссии, эти цифры явно неполны. См.: Национальный архив Республики Молдова. Ф. 1026 (ЧГК). Оп. 2. Д. 18. Л. 67–67об.
[36] В Ободовке в 1924 была создана Бессарабская коммуна для отставных бойцов дивизии Г.И. Котовского (который сам помогал её созданию и традиции которого здесь долго чтили). Во время оккупации она подверглась разгрому. После войны — колхоз имени Котовского. См.: Шмерлинг В.Г. 2009. Повесть о Бессарабской коммуне. URL: http://vlshmerling.narod.ru/besscom/index.htm#content (дата обращения 6 мая 2021). «Среди румынских евреев, депортированных в Ободовку, были бывшие государственные функционеры, такие как учителя, врачи, юристы и клерки, а также многие ветераны Первой мировой войны, некоторые — с наградами за подвиги» (Encyclopedia of Camps and Ghettos… 2018: 726).
[37] Мулыс (мн.ч.) — поминальная молитва «Эль мале рахамим» («Господи Всемилостивый»). Читается на кладбище, а также в синагоге в день памяти об умершем (йорцайт).
[38] Кодеш (букв. «святое», кадиш, бессар. кидыш) — молитва в заключение похорон. (Благодарим Йону Бергера за это и предыдущее разъяснение.)
[39] Бершадь — город в Винницкой области, до 2020 — районный центр. В 1941–1944 входил в состав румынского губернаторства «Транснистрия», здесь было одно из крупнейших гетто.
[40] Pałac (польск.) — дворец.
[41] Видимо, автор имеет в виду возвратный тиф.
[42] Буковина сохраняла традиции этнической терпимости ещё с тех времён, когда она была австрийской провинцией (до 1918). Положение евреев при оккупации здесь было значительно лучше, чем в Бессарабии, поскольку там за них заступились некоторые высшие румынские чиновники — прежде всего примар (мэр) Черновцов Траян Попович. См.: Солонарь В.А. Очищение нации. Насильственные перемещения населения и этнические чистки в Румынии в период диктатуры Иона Антонеску (1940–1944) / Авторизованный пер. с румын. А. Тулбуре. — Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020. С. 266–279.
[43] Ещё 9 октября 1941, при высылке евреев из Кишинёвского гетто, по приказу И. Антонеску у них изымались все ценности, причём специально указывалось, что платить за них (по чудовищно заниженной цене) нужно было Kassenschein (точнее, Reichskreditkassenschein, RKKS) — немецкими оккупационными бонами, либо советскими рублями (уже изъятыми из обращения), но ни в коем случае не румынскими леями. См.: Traşcă O. (ed.). Op. cit. P. 277, док. 114.
[44] Праздник Пурим (обычно в феврале-марте) отмечается в память о спасении евреев от истребления, задуманного персидским министром Аманом. Легенда, легшая в основу этого праздника, изложена в библейской Книге Есфирь. Пейсых — то есть Песах (еврейская Пасха), праздник в память исхода из Египта. Швис — то есть Шавуот, праздник дарования Торы на горе Синай.
[45] Седер — ритуальная трапеза в начале праздника Песах. Проводится в кругу семьи, глава которой и руководит церемонией.
[46] Ивритское слово «хазан» (ивр. חזן, также передаётся как «хаззан») обозначает кантора, человека, совершающего молитву в синагоге от имени собравшихся.
[47] Община — здесь: орган местного самоуправления.
[48] Город Балта (ныне Одесской области) был оккупирован немцами 8 августа 1941 г., а через месяц был передан в румынскую зону оккупации («губернаторство Транснистрия»). Сразу же в Балте было создано гетто. В январе 1943 г. в нём насчитывалось 2.723 еврея, из них 1.906 — из Бессарабии и Буковины. Примерно половина этих «румынских» евреев весной 1943 г. была направлена на принудительные работы в район Николаева, в распоряжение немецкой организации Тодт; после возвращения выживших в Балту их осталось лишь 866 человек. В меньшем масштабе подобные акции проводились и раньше. Террор особенно усилился с конца 1943 г., накануне отступления немецких и румынских войск: в марте 1944 здесь было расстреляно 270 евреев и заживо сожжено ещё около 60. 29 марта 1944 г. город был освобождён Красной армией. См.: Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945. Vol. III. P. 597–598. Однако возможно, имеется в виду т.н. «жудец Голта» на берегу Южного Буга, где находились крупнейшие лагеря. Узников этих лагерей часто отправляли на работы на левый берег, управляемый немецкой администрацией. После выполнения работ их чаще всего уничтожали.
[49] «Мордочка» или «заячья морда» — народное название сорта яблок (по форме).
[50] Йом-Кипур (Судный день), Рош hа-Шана (еврейский Новый год) и Суккот (праздник кущей), приходятся чаще всего на сентябрь.
[51] Николаев, расположенный на левом берегу Южного Буга, управлялся немецкой администрацией.
[52] Печерский концлагерь, он же «Мёртвая петля», в нынешней Винницкой области (на Южном Буге, близ Брацлава и Немирова). Входил в румынскую зону оккупации (Транснистрия) и считался одним из самых страшных в этой зоне. Заключённых часто забирали на принудительные работы для немцев, откуда они обычно не возвращались. Условия в лагере были таковы, что, когда в феврале 1943 г. в Печеру прибыли с инспекцией капитан Фетекэу и полковник Логин, они были настолько потрясены увиденным, что не рискнули зайти ни в одно здание. Число жертв этого лагеря по разным подсчётам сильно варьирует: обычно считается, что через него прошло до 11 тысяч заключённых, из которых около 9.500 погибли. В апреле 1942 г. в нём насчитывалось 3.591 евреев, на момент освобождения (17 марта 1944) — лишь 350 (Encyclopedia of Camps and Ghettos… Vol. III. P. 742–743).
[53] Colonel (рум.) — полковник.
[54] Ещё Х.Н. Бялик в «Сказании о погроме» (1903) сурово упрекал кишинёвских евреев в том, что они не оказали погромщикам отпора. Ради этого он даже не опубликовал сведения, собранные им же по свежим следам, говорившие, что попытки самообороны всё же были (Дорон Д. (Спектор). Кишинёвское гетто – последний погром / Пер. с иврита З. Леопольд. [Иерусалим:] Библиотека Алия, 1991. С. 31–32). И казалось бы, условия, созданные для евреев оккупационными властями, исключали всякую возможность сопротивления. Тем не менее о нём есть свидетельства. 22 августа 1941 г. комендант Вертюжанского лагеря А.Г. Константинеску докладывал, что в лагере возникает движение, справиться с которым наличными силами — 90 жандармов с устаревшими винтовками, к которым уже даже не выпускают патроны, — он, возможно, будет не в силах (Traşcă O. (ed.). Op. cit. P. 245, 246–248, док. 90, 91). Крупнейший же случай такого рода был в Тэтэрэшть (Tătărăşti — румынское название Татарбунар, не путать с Tătăreşti в Кагульском районе). Этот район — плоская степная равнина возле солёных несудоходных лиманов, что создавало трудности как для заключённых, так и для охранников. 13 августа 1941 г. полковник Т. Мекулеску, главный жандармский инспектор Бессарабии, телефонировал, что евреи из этого лагеря, «будучи отправлены на работу в поля и отказавшись работать, стали агрессивными». Неделю спустя власти доложили, что из этих евреев 118 было расстреляно, а остальные 333 «скрылись и теперь разыскиваются». Похоже, что отказ от работы стал началом восстания почти безоружных людей, кончившегося массовым побегом. В том же августе лагерь в Тэтэрэшть был закрыт (Encyclopedia of Camps and Ghettos… 2018: 786; Traşcă O. (ed.). Op. cit. P. 250, док. 93). Что же касается евреев-партизан, то из них только на территории Украины поимённо известны 2.929 человек (по заведомо неполным данным), а на Волыни существовали партизанские группы, почти сплошь состоявшие из евреев (Круглов А.И. Холокост в СССР, в печати).
[55] Бершадь была освобождена 14 марта 1944 г. в ходе Уманско-Ботошанской операции войсками 2-го Украинского фронта (командующий — генерал армии И.С. Конев).
[56] То есть избавление от Холокоста пришло как раз в день праздника в честь избавления от аналогичного бедствия (см. выше).
[57] Цекиновка — село в Ямпольском районе Украины, на Днестре, прямо напротив Сорок.
[58] Гороно — городской отдел народного образования.
[59] Официально «дело врачей» было начато 9 января 1953, хотя разрабатывалось оно ещё с 1952. Ходили даже слухи, что его результатом должна стать депортация всех советских евреев в Сибирь (документальные подтверждения этих планов не обнаружены). После смерти Сталина Л.П. Берия, стремясь создать себе в предстоящей борьбе за власть репутацию либерала, прекратил дело. Лишь 6 апреля «Правда» признала обвинения против врачей-евреев клеветническими.





Следите за Исторической Экспертизой и за проектом в telegram https://t.me/istorex_ru
Наш Youtube-канал https://www.youtube.com/@HistoricalExpertise
Готовится к печати первый том «Кишинев и Кишиневский уезд». Выход в свет запланирован на лето 2025.
При подготовке материалов к печати мы стараемся найти всю возможную информацию о жертвах. Обращаемся с просьбой присылать любые свидетельства об их жизни и обстоятельствах гибели к их потомкам, родственникам, соседям: istorexorg@gmail.com
Материалы будут опубликованы на сайте журнала «Историческая экспертиза». См.: https://www.istorex.org/blog/categories/tragedy-two-banks-of-the-dniester
Для чего мы совместили проекты публикации документов и семейные воспоминания?
«Одна из чреватых опасными последствиями проблем нынешней РМ относится к сфере коллективной памяти. Среди представителей культурной и политической элит присутствует, к сожалению, немало желающих использовать трагические события 1940-х годов с целью расколоть граждан на два пронизанных антагонизмом сообщества памяти. Одни недобросовестные «дискурс-манагеры» (Виктор Пелевин) призывают скорбеть исключительно о жертвах сталинских репрессий и голода 1946 года. Их оппоненты прибегают ко всевозможным ухищрениям, чтобы оправдать преступления сталинизма и призывают помнить исключительно тех мирных граждан, кто пал от рук нацистов и представителей режима Антонеску. Такая политика памяти «стенка на стенку» не позволяет сформировать молдавское полиэтничное гражданское общество, способное эффективно отвечать на грозные вызовы современности. Мы уверены, что деление жертв на «наших» и «чужих» противоречит не только европейским ценностям и поэтому является реальным препятствием к европейской интеграции РМ, но бросает вызов таким азам человечности, как сочувствие к боли других людей и обязанность помогать слабым. Лишь благодаря способности испытывать сострадание к попавшим в беду, люди имеют право именовать себя людьми. Альтернативой попыткам расчеловечить наших граждан является подход, согласно которому не может быть жертв «своих» и «чужих», все жертвы 1940-х, в большинстве, напомним, дети, женщины и старики, – наши!»
См. об этом: https://www.istorex.org/post/31-07-2024-announcement
ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ
Оплатите авансом экземпляр первого тома Материалов ЧГК по МССР (Кишинев и Кишиневский уезд, выход в свет – весна 2025 года) по льготной цене 300 MDL. Всем благотворителям проекта признательность будет выражена поименно.
PAYPAL istorexorg@gmail.com (в комментарии указываете Ваше имя и эл. почту для контакта).
ПЕРЕВОД НА КАРТУ БАНКА MAIB 4356 9600 6652 7729 (ВАЛЮТА MDL, ПОЛУЧАТЕЛЬ ERLIH SERGHEI (в комментарии указываете Ваше имя и эл. почту для контакта).